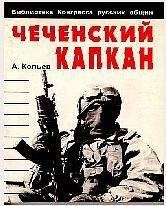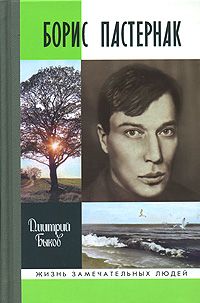Борис Мансуров - Лара моего романа: Борис Пастернак и Ольга Ивинская
2. Полтора года тому одна американка, прочитав «Охранную грамоту», сообщила, что Венеция осталась такой, какой я ее видел, но фиалки же нигде, даже в Парме, уже не пахнут так, как они пахли в годы моего отрочества и еще пахнут в «Охранной грамоте».
В первый раз я снова почувствовал этот запах, когда открыл твой конверт с фиалкой. Какое дальнее, давно прошедшее воспоминание! Благодарю тебя за эту встречу, мой ангел.
Твой Б.Рената с волнением стала готовиться к поездке, мучительно думая, что ей привезти Пастернаку и Ольге. Рената пишет:
В феврале 1960 года я прочитала очерк Хайнца Шеве в газете «Ди Вельт» о праздновании юбилея Пастернака (70 лет!) на даче у Ольги. И не могла себе представить, что спустя два месяца я сама войду в эти комнаты. Шеве написал, что среди подарков были и пластинки с немецкой записью «Фауста», но не было аппарата, чтобы прослушать их. Я немедленно пошла и купила патефон.
Наступил долгожданный апрель, и Рената приехала в Москву. Их группу разместили в Гостинице «Метрополь». В день Пасхи 17 апреля 1960 года Рената вышла из гостиницы, и на подъехавшем такси за доллары ее повезли в Переделкино. «Оказалось, случайно, — пишет Рената, — шофер говорит на немецком языке»[392]. Она сообщает в книге, что «госпожа Зина была со мной мила и дружелюбна»[393].
Рената описывает беседу с Пастернаком в его комнате наверху:
Мы сидели друг против друга. На простом стуле не было подушки, на полу не было согревающего ковра. Единственными цветными пятнами в комнате были корешки книг на высокой полке. Там я увидела издания «Доктора Живаго» на различных языках. <…> Я смотрела из окна на его сад, на луга и Переделкино, где вдали виднелась колокольня церкви. <…> Вспомнив о больнице, куда он попал в 1958 году и где впервые к нему принесли мое письмо, мы начали говорить о нашей переписке, о счастливом и тяжелом времени. Историю с Нобелевской премией он быстро исчерпал.
<…> Комсомольцы собирались поджечь его дом, а однажды он видел, как двое подрались из-за него, потому что один из них назвал Бориса Леонидовича предателем.
Острой угрозой для него стало опубликование стихотворения «Нобелевская премия». Его на прогулке грубо усадили в автомобиль и отвезли в прокуратуру, где предъявили обвинение в измене родине. Он дал подписку об отказе встречаться с иностранцами. <…> А вскоре на допрос вызвали Ольгу — это было для него самое ужасное. <…> Я спросила, что же случилось с тех пор? «Пока ничего», — ответил он совсем тихо, и я почувствовала, какая трагедия скрывалась за этими словами.
Солнце стояло уже высоко, когда мы направились к Ольге. Мы прошли через маленькую калитку прямо в лес. Тонкие слои снега еще покрывали там и сям лесную тропинку, торжественные зеленоватые сумерки окружили нас. Лес как бы пел свою песню, которую хорошо отразил в своих стихах Пастернак. Эти стихи никогда не перестанут звучать в моем сердце, ибо все «исполнилось и сбылось». Мы вышли на залитую солнцем широкую деревенскую улицу. Серо-голубое озеро как бы сопровождало нас. Пастернак в светлом костюме легко шагал рядом со мной, как юноша. Он с чувством обнимался и христосовался со встречными знакомыми. Он открывал свой портфель и со счастливым лицом раздаривал припасенные заранее подарки. Он совсем преобразился. Когда мы подошли к даче Ольги, он взбежал на пригорок, как мальчик[394].
Ольга Ивинская уже открывала нам двери и вскричала: «Я так и думала, что Рената уже здесь, раз вы так поздно пришли!» Она опиралась на палку, поскольку повредила правую ногу, и мы обе смеялись над нашим общим несчастьем. Лишь месяц тому назад в Берлине я также повредила правую ногу. <…> Мы сидели в комнате, о которой я уже читала в очерке Шеве.
На узком столе стояли и чарующе пахли лиловые левкои и нежно-желтая роза. (Любимое Пастернаком сочетание двух цветов. — Б. М.) Я выбрала из корзинки светящееся крашеное яичко, и еще теперь берегу его, красное, как киноварь. Казалось, что мы уже сотню раз сиживали так втроем. Пастернак, оживленный и счастливый, переводил, склоняясь то направо, то налево, так как Ольга не знала немецкого языка, а я — русского.
Казалось, что мы разговариваем на одном языке. Мы пили вино, болтали, смеялись и были счастливы[395]. Время пролетело, как один миг. <…> Пора было возвращаться на Большую дачу. Мы надеялись еще увидеться в театре на спектакле «Братья Карамазовы». Было уже четыре часа дня, когда мы вернулись в «ковчег»[396].
Рената подробно описывает окончание этого первого дня своего посещения Пастернака в Переделкине:
Пастернак приветствовал своих гостей пламенной речью. Затем он переводил мне тосты гостей и объявил, что гости надеются выслушать и мою речь. <…> Я так растерялась, что даже забыла встать. Я рассказала, как смогла, о нашей дружбе, достигшей своего апогея в этой встрече. Я благодарила всех, и особенно Зинаиду Николаевну, за эти праздничные часы, за незаслуженно радушный прием в кругу друзей дома. Пастернак переводил, и мне было неловко от наградивших меня бурных аплодисментов.
День прошел слишком быстро. Пастернак предложил мне поехать с ним в Москву на театральный спектакль, но Зинаида Николаевна не разрешила ему эту поездку.
Я подарила Пастернаку рисунок «Тигр», который сделал мой племянник Генрих Вульф, на что Борис Леонидович написал ему благодарственную открытку. Чета грузинских писателей из Коджори взялась подвезти меня в Москву на автомобиле.
В среду 20 апреля я приехала последний раз в Переделкино. Пастернак подарил мне книгу стихов «Когда разгуляется», где написал: «Ренате Швейцер… пришла, увидела, победила! До свидания, милая подруга. Живи легко, счастливо, широко, удачливо. Счастливого возвращения, будущее нас не разъединит. Твой Б.»
Вернувшись в Берлин, Рената обнаружила апрельское письмо Пастернака, которое уже не застало ее, так как она уже уехала в Москву. В нем были такие слова:
Прислали ли тебе мой сборник «Когда разгуляется»? Там превосходные, точные переводы на немецкий[397]. Ты увидишь, до какой степени банально мое настоящее существо в этой точной, мастерской передаче. Плохие переводчики обманывают читателя и сделали меня, благодаря неясности их передачи, непонятным, притягательным, путаным. Не приезжай сюда. Обнимаю тебя.
Твой Б.Рената пишет в своей книге: «Как я была рада, что лишь теперь прочла это письмо. Уже задним числом меня охватил страх, который я должна была испытать, попади письмо в мои руки раньше».
Пришло письмо, написанное Пастернаком 21 апреля 1960 года:
Я только что вернулся с телефонной станции, откуда пытался позвонить тебе. Как мне Тебя не хватает, мне так грустно, что это было позавчера. Ты так глубоко вошла в мою душу и жизнь. Благодарю и люблю Тебя. И еще так много произойдет и случится.
Твой Б.В те дни Рената заболела:
Я начала было снова делать покупки — любимые Пастернаком баховские концерты, бетховенские симфонии под управлением Фуртвенглера. Но вдруг я заболела. Озноб и сильный жар. У меня ничего не болело, и врач не мог ничего установить. А когда через несколько дней я поднялась с постели, пришло письмо из Москвы от 25 апреля, объяснившее мою болезнь.
Письмо Пастернака к Ренате, датированное 25 апреля 1960 года:
Пишу тебе в постели. У меня страшные боли во всей груди, в спине, в левом плече. Не знаю, что это такое. Грудная жаба? Рак легких? Тем больше моя радость, что мы дошли до конца в нашем узнавании друг друга и любви друг к другу. Это бесконечно милое недавнее прошлое, это еще такое близкое позавчера, в эти дни страшных телесных болей, когда я так спокойно думаю о смерти, кажется мне полным света и обетований, таким, каким в течение всей жизни было для меня будущее. Приходил врач. Нервы, невроз. А боли в лопатке так жестоки, так нестерпимы. Предписания: лежать, не спускаться вниз и т. д.[398]
В деле помощи от меня не создавай себе забот[399]. Оно потребует еще много времени (целые месяцы), надо будет действовать через Ф. Не могу больше писать, пропадаю от боли в сердце.
Рената Швейцер пишет:
Смертельно больной, в мучениях, он думал о будущем совершенно чужих ему людей. Я была еще настолько слепа, что не понимала, что он умирает. Я поверила в болезнь нервов, просила беречь себя и отправила пакет с вещами, казавшимися мне нужными. Мне не приходила в голову мысль, что он уже не получит его. Когда 6 мая пришла телеграмма, я все еще не догадывалась, что это была последняя весть от Пастернака. Он, истерзанный болями, сообщал в телеграмме: «Прямой опасности нет, но нестерпимые, измучивающие боли в груди, плечах, спине. Прощай. Желаю радостной плодотворной работы. Борис». Следующие дни моей тревожной жизни невозможно описать. <…>