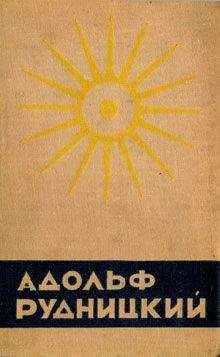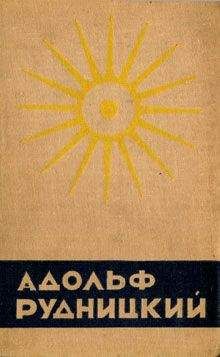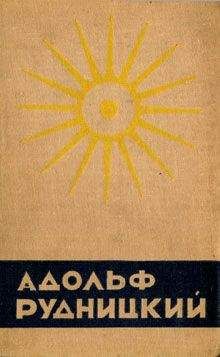Адольф Рудницкий - «Голубые странички»
— Знаете, что сказал мне Шиллер несколько месяцев назад? — сказала она. — «Я прожил в Лодзи прекрасные годы, пережил там вторую молодость, там я был счастлив, это-то я уж знаю твердо».
— Потому что в Лодзи, — добавила актриса, — он поставил свои лучшие послевоенные спектакли: «Селестину», «Шутки с дьяволом», «Бурю», «Краковяков»…
Тоска человека, который уже знает, что пережил свой прекраснейший час, дошла до меня в этом признании умершего. Но, как я ни скорбел, мне было приятно услышать, что лодзинские годы, не знавшие смерти, годы взлета для многих из нас, были великими годами и для умершего, и он знал об этом. И ему было хорошо, когда другим было хорошо, когда над Лодзью пылали прекраснейшие из звезд — человеческие звезды!
1955
Торжественное заседание, или у каждого есть свой Воломин
1
Как-то в ноябрьский день позвонила ко мне Геня. Всякий, кто имеет хоть отдаленное отношение к польской литературе, знает, о ком идет речь. В 1945 году к Зофье Налковской пришла девушка из деревни, она искала домашнюю работу. Писательница оставила ее у себя; с тех пор всякий, кто пытается попасть к Налковской, столкнется с Геней; без нее, как говорят посвященные, «муха не влетит». Стоя за креслом писательницы, время от времени целуя ее в голову, она слушает и дает оценку новым произведениям автора «Медальонов». И если чтение ее захватывает, не стесняясь, плачет. В первые годы после войны, когда «Газета людова» [6] обрушилась на писательницу с клеветническими, полными яда нападками, Геня собственноручно конфисковала газету, чтобы она не попала в руки пани Зофьи. «Только вы ничего не говорите, — заклинала Геня всех нас по очереди, — может, не узнает». Вместе с Налковской, автором свыше двадцати книг, написанных на протяжении пятидесяти лет, Геня, наверное, войдет в литературу и всегда будет привлекать к себе взоры всех, кто ценит прекраснейшее качество человеческой натуры — верность. Помянем же добрым словом это дитя народа за все то, что она делает для нашей писательницы.
После короткого телефонного разговора Геня вырвала у меня обещание участвовать в торжественном заседании, на котором должна выступать и ее воспитательница.
Положив трубку, я пытался понять, что произошло: ведь обычно я так твердо отказываюсь выступать на вечерах, что меня даже перестали приглашать. Еще в лодзинский период друзья внушали мне, будто я враг публичных выступлений, и, хотя во время немногочисленных вечеров я робко уверял, что мне, как раз напротив, нравится климат зрительного зала и дыхание толпы, с той поры я постоянно отказываюсь от приглашений и при этом проявляю столько силы воли, что сам тому удивляюсь.
Два дня спустя, в воскресный вечер, не похожий ни на один другой, я явился к Зофье Налковской. Она просматривала свои рассказы и очерки, листала их в поисках чего-либо подходящего для торжественного заседания. Автор более чем двадцати книг, она волновалась, как дебютантка, вела себя так, словно признание будущих поколений зависело от ее сегодняшнего выступления. Она уверяла, что у нее ничего нет, что в сущности она ничего достойного до сих пор не написала. Беря из рук Гени все новые странички, выслушивая все новые советы, она повторяла: это не подходит, «нужно о борьбе, а не о страдании, потому что слушать будет борющийся человек, герой». В седьмой день творения художник точно так же полон сомнений, как и в его первый день. В конце концов писательница безо всякой уверенности сказала, что прочтет рассказ «В темноте».
Мы спустились вниз; в машине нас уже ждал Владислав Броневский. Втроем — три писателя трех поколений — мы должны были представлять литературу на торжественном вечере в маленьком Воло́мине, в двадцати километрах от Варшавы.
За городской заставой мы утонули в мрачной осенней глуши. Все источники жизни, казалось, иссякли, мы ехали под несуществующим небом, среди несуществующих полей; существовали только деревья, возвращенные к жизни светом наших фар. Мы чувствовали холод земли.
Без малого в шесть мы очутились возле Воломинского стекольного техникума. У здания стояло несколько варшавских машин. Просторный квадратный зал был уже набит людьми. В шесть открыли торжественное собрание. Поименно приветствовали гостей из Варшавы. Приезд Налковской и Броневского особо никак не был отмечен. Воломин не привык принимать у себя по воскресеньям таких писателей! Доклад красиво и гладко сделал один из варшавских товарищей, пожилой человек; новое поколение уже не говорит таким языком. После доклада состоялась художественная часть.
Антони Слонимский как-то рассказывал, что во Вроцлаве, на заводе «Пафаваг», о начале художественной части объявили после выступления варшавских поэтов. Налковская в конце концов решила, что рассказ «В темноте» не годится для чтения на вечере, и осталась в зале. Броневского и меня провели в комнатку за сценой, где мы застали пухленькую, красивую скрипачку, ученицу консерватории, и пианиста, еще более молодого, чем она, с глазами, сверкающими, как пламя среди ночи. Мальчик недавно вернулся из Франции; оставил там родителей, эмигрировавших в тридцать девятом году, выбрал нас. Кроме них, за сценой находилась актриса Театра Польского, которая собиралась читать Маяковского и Леопольда Левина; она утверждала, что нет на свете ничего труднее, чем читать стихи. К артистической бригаде принадлежала также невысокая, немножко напуганная певица в красном свитере; от волнения она то снимала его, то снова надевала. Я чувствовал себя вроде как фокусник, который должен показать, на что способен; думаю, что не я один был в таком положении. Среди нас вертелся представитель местного металлургического завода, он был в черном костюме, с красным галстуком, голову держал высоко, гордо; ему предстояло объявлять о наших выступлениях. Здороваясь перед этим с Броневским, он сказал ему тихо: «Я счастлив, товарищ, что вижу вас у нас».
Он сказал это только Броневскому.
2
Сперва вызвали молодых музыкантов, пианиста с пылающими глазами и пухленькую скрипачку. Когда они вернулись, пианист, потирая руки, жаловался, что табурет у рояля слишком низкий. Девушка была так же спокойна, как до выхода, ни одна прядка волос у нее не растрепалась. В зрительном зале долго не умолкали аплодисменты. Потом вышла нервная актриса со стихами Маяковского. После нее двинулся Владислав Броневский. Его встретили горячей овацией. Броневский прочитал три стихотворения. Первые два зал принял с энтузиазмом, третье, о Розенбергах, хуже. Поэт выступал сегодня, быть может, в двухтысячный раз, и все-таки его огорчил несколько более холодный прием, оказанный последнему стихотворению. После певицы в красном свитере гражданин Воломина кивнул мне.
3
Встав у пюпитра и окинув зал взглядом грошового победителя, я обнаружил тревожные признаки. На балконе, где скопилась школьная молодежь и притом самого младшего возраста, небольшая толпа в проходе колыхалась, как нива. Художественные потребности детворы, должно быть, уже были удовлетворены, и ребята пытались пробиться к двери. На следующий день, размышляя над тем, имеет ли смысл пускать ребят на торжественные заседания, я пришел к выводу, что, если даже какая-то часть программы бывает для них слишком трудной, что-то все-таки остается в их молодых головах и сердцах. Но к этой мысли я пришел только назавтра, а пока что несколько растерянно приглядывался к живой волне. Я решил подождать с чтением, пока волна не успокоится. Желая мне помочь, кое-кто из публики начал шикать, отчего шум еще больше усилился. Когда он несколько затих, я потянулся к тексту.
Вскоре, однако, я убедился в справедливости слов варшавских кельнеров: «Вам сегодня еда не по вкусу? — говорят они. — Это потому, что вы, уважаемый пан, сегодня не в ударе, для всего нужно быть в ударе, в том числе и для еды». Начав читать, я почувствовал нечто, обратное понятию «быть в ударе». Отрывок, который лежал передо мной, я не раз читал друзьям, он производил впечатление; недавно я прочитал его Гене, она тут же расплакалась; сам я также был недурного мнения о трех страничках машинописного текста, которые привез с собой. Теперь все изменилось. Я попытался читать «обычно», но обычно я чувствовал тепло, а теперь — лед. Текст резал мне уши, вместо законченной формы я видел швы, только швы, ничего, кроме швов! Я пытался себя переломить, убедить себя, что мой рассказ не так уж плох, разогреть себя, сейчас это был единственный путь к тому, чтобы разогреть зал, но, по мере того как я читал, холод еще сильнее сковывал меня. В моем тексте было несколько фраз о «восьми годах, которые проплыли у меня между пальцами, о сумасшедшем беге времени». Обычно я читал это место с особой интонацией, с соответствующим ударением, но на этот раз интонация, которую я сохранил, прозвучала фальшиво, обнаружив нелепость акцентов и бессмыслицу содержания в сопоставлении с аудиторией, к которой я обращался. Как должны были воспринять фразу о восьми годах, проплывших между пальцами, слушатели, чья полная цифра лет, прожитых в этом лучшем из миров, составляла ровно столько же? Патетика, никому не адресованная, обернулась против меня. Вслед за одним промахом я обнаружил второй, третий. Чтение превратилось в муку.