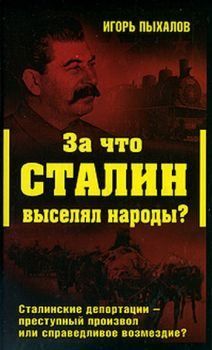Константин Леонтьев - Грамотность и народность
– Хохлушки! идите веселить меня!
Молодые малороссиянки, которые хотя и строже нравами своих северных соотечественниц, но пошутить и повеселиться любят, сбегались к седому «коммунисту», пели и плясали около него, и целовали щеки, которые он им подставлял.
Все это, заметим кстати (и весьма кстати!), не мешало ему быть строгим исполнителем своего церковного устава.
Любопытно также прибавить, что про рыбака старообрядца мне с восторгом рассказывал старый польский шляхтич, эмигрант 36-го года; а про скупого хлебопашца болгарина с уважением говорил грек-купец.
И греки, и болгары по духу домашней жизни своей одинаково буржуа, одинаково расположены к тому, что сами же немцы обозвали филистерством.
Тогда как размашистые рыцарские вкусы польского шляхтича ближе подходят к казачьей ширине великоросса.
Я не хочу этим унизить болгар и через меру возвысить великороссов. Я скажу только, что болгары, даже «коренные» – сельские по духу своему, менее своеобразны, чем простые великороссы. Они более последних похожи на всяких других солидных селян.
Серьезные и скромные качества, отличающие болгарский народ, могут доставить ему прекрасную в своем роде роль в славянском мире, столь разнообразном и богатом формами.
Но «творческий» гений (особенно в наше столь неблагоприятное для творчества время) может сойти на главу только такого народа, который и разнохарактерен в самых недрах своих и во всецелости наиболее на других не похож. Таков именно наш великорусский великий и чудный океан!
Быть может, мне бы возразил кто-нибудь, что русские (и особенно настоящие москали) именно вследствие того, что они разгульны и слишком расположены быть «питерщиками», мало расположены к капитализации, а капитализация нужна.
На это я приведу два примера: один из Малороссии, другой из великорусской среды:
В «Биржевых Ведомостях» рассказывают следующее происшествие, бывшее недавно в Полтаве. В тамошнее казначейство явились одетые по-простонародному крестьяне – муж и жена У обоих полы отдулись от какой-то ноши. Муж обратился к чиновнику с вопросом: можно ли ему обменять кредитные билеты старого образца на новые?
– А сколько их у тебя? – спрашивает чиновник.
– Як вам сказать?., право, я и сам не знаю. Чиновник улыбнулся.
– Три, пять, десять рублей? – спрашивает он.
– Да нет, больше. Мы с женою целый день считали да не сосчитали…
При этом из-под полы оба показали кипы ассигнаций. Естественно явилось подозрение относительно приобретения владельцами такой суммы. Их задержали и сочли деньги: оказалось 86 тысяч.
– Откуда у вас деньги?
– Прадед складывал, складывал дед и мы складывали, – было ответом.
По произведенному дознанию, подозрения на них не оправдались и крестьянину обменяли деньги. Тогда они вновь являются в казначейство.
– А золото меняете, добродию?
– Меняем. Сколько его у вас?
– Коробочки две…
Живут эти крестьяне в простой хате и неграмотны».
Но скажут мне: «это очень не хорошо»; надо, чтобы деньги не лежали, как у этого хохла или у старого болгарского патриарха, надо, чтобы они шли в оборот. Когда бы эти люди были грамотны, они поняли бы свою ошибку.
Но в ответ на эти слова я возьму в руки новый факт и стукну им тех бедных русских, которые не в силах мне сочувствовать.
В Тульче живет и теперь один старообрядец Филипп Наумов. Он грамоты не знает; умеет писать только цифры для своих счетов. Он не только сам не курит и не пьет чая и носит рубашку навыпуск, но до того тверд в своем уставе, что, бывая часто в трактирах и кофейнях для угощения людей разных вер и наций, заключающих с ним торговые сделки, он, угощая их, не прикасается сам ни к чему. Даже вина и водки, которые старообрядством не преследуются, он никогда не пьет. Он не любит никого приглашать к себе, ибо, пригласив, надо угощать, а угостив, надо разбить, выбросить или продать посуду, оскверненную иноверцами (хотя бы и православными). Он имеет несколько сот тысяч пиастров капитала в постоянном обороте, несколько домов; из них один большой на берегу Дуная отдается постоянно внаём людям со средствами: консулам, агентам торговых компаний и т. п. Сам он с семьей своей, с красавицей женой и красавицей дочерью и сыном, живет в небольшом домике с воротами русского фасона и украсил премило и преоригинально белые стены этого дома широкой синей с коричневым шахматной полосой на половине высоты. /
Он очень честен и, несмотря на суровость своего религиозного удаления от иноверцев, слывет добрым человеком. По многим сделкам своим он расписок не дает; постояльцы, когда платят ему за дом, не требуют с него расписки в получении – ему верят и так. Сверх всего этого, он один из первых в Тульче (где столько предприимчивых разноплеменных людей) задумал выписать из Англии паровую машину для большой мукомольной мельницы и, вероятно, богатство его после этого утроится, если дело это кончится успешно.
Один весьма ученый, образованный и во всех отношениях достойный далмат, чиновник австрийской службы, с которым я был знаком, всегда с изумлением и удовольствием смотрел на Ф. Наумова.
– Мне нравится в этом человеке то (говорил мне австриец), что он при всем богатстве своем ничуть не желает стать буржуа; но остается казаком или крестьянином. Вот и эта черта великорусская.
Болгарин или грек, как завел бакалейную или галантерейную лавочку и выучился грамоте, так сейчас и снял восточную одежду (всегда или величавую, или изящную), купил у жида на углу неуклюжий сюртук и панталоны такого фасона, какого никогда и не носили в Европе, и в дешевом галстухе (а то и без галстуха) с грязными ногтями пошел себе делать с тяжкой супругой своей визиты à l'européenne, европейские визиты, в которых блеск разговора состоит в следующем: «Как ваше здоровье? – Очень хорошо! – А ваше как здоровье? – Очень хорошо! – А ваше? – Благодарю вас. – Что вы поделываете? – Кланяюсь вам. – А вы что поделываете? – Кланяюсь вам. – А супруга ваша, что делает? – Кланяется вам».
Нет! Великоросс может все, что может другой славянин; но он сверх того способен на многое, на что ни другой славянин, ни грек или француз, и др. европейцы не способны!
Возьмем хоть опять того гуляку-старообрядца, о котором я говорил в начале этого примечания. Болгарин или серб если склонен к сластолюбию и женолюбию, то из него скорее выйдет лицемер вроде «Jacques Ferrand» в Парижских Тайнах, чем «Лихач Кудрявич» Кольцова.
Я с ужасом слыхал на Востоке от 18–20-летних, едва обученных грамоте мальчиков, такие слова:
– Надо есть дома постное для слуг и простого народа; а потихоньку от них отчего же не есть скоромное. Какой же образованный человек может выносить постное кушанье? Это в пору желудку рабочего человека!
На Востоке в грамотном сословии нет идеализма ни личного, ни религиозного, ни философского, ни поэтического.
Развить и возобновить его на Востоке могут только русские, когда у них самих пройдет нынешнее утилитарное одурение!
Итак, судя по этим кратким и спешно изложенным примерам и по множеству других, можно сказать, что грамотность сопутствует всевозможным нравственным качествам как из круга семейной, так и государственной жизни. Теперь обратимся к уму.
Неужели мы смешаем грамотность с развитием ума и талантов?
Кто же это сделает? Грамотность может отчасти способствовать их развитию, как и развитию нравственных свойств; но этому развитию способствуют и тысячи других обстоятельств помимо грамотности.
Русский мужик очень развит, особенно в некоторых губерниях. Он умен, тонок, предприимчив; в нем много поэтического и музыкального чувства; местами он неопрятен, но местами очень чист и всегда молодец. Он умеет изворачиваться в таких обстоятельствах, в которых растеряются грамотные, но тупые французские или немецкие поселяне.
Герцену надо отдать при этом случае справедливость, он тоже говорил про русского мужика: «он не образован, но он развит».
Почему же, за немногими исключениями, у нас люди почти всех учений нередко и бессознательно с любовью обращаются к нашему простолюдину? Неужели только из демократической гуманности? Нет, здесь есть другое… Всякий член, оторванный быстрым и сначала насильственным европейским воспитанием нашего общества, понимает, что в нашем простом народе отчасти скрыт, отчасти уже ясен наш национальный характер.
И действительно, в гармоническом сочетании наших сознательных начал с нашими стихийными, простонародными началами лежит спасение нашего народного своеобразия. Принимая европейское, надо употреблять все усилия, чтобы перерабатывать его в себе так, как перерабатывает пчела сок цветов в несуществующий вне тела ее воск.
Для всякой живой цивилизации столько же необходимы начала наивные, как и сознательные. Без наивных элементов жизни разве возможны были бы Кольцов и Шевченко? В области чистой логики и математики нет ничего национального и поэтому ничего живого; живое сложно и туманно.