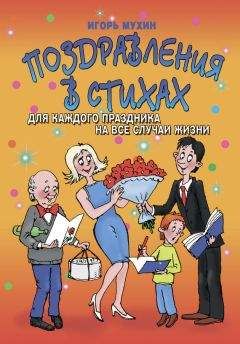Игорь Северянин - Том 5. Публицистика. Письма
Во время ужина писатель ушел к себе в кабинет. Исчезновению Сологуба никто не придал значения: он нередко в разгаре вечера любил уединяться у себя в кабинете. Выходил он оттуда всегда отдохнувшим, набравшимся свежих сил. В рассказываемую ночь он принес только что воспринятое в кабинете стихотворение и, вместо обычного спитча, прочел его за столом. Кончалось оно так:
…И ныне, в этой зале шумной,
Во власти смеха и вина,
К Тебе, Отец, в мольбе бездумной
Моя душа обращена.
Упоминание о Боге во время пира показалось всем несколько странным, необычным. Веселие смолкло. В наступившем году началась мировая война, и я думаю, многие из встречавших зарождение того проклятого года в столовой Сологуба с жутью вспоминали его предостерегавшие стихи.
3Вспоминается мне и тост, провозглашенный однажды Сологубом по поводу романтической истории общественной деятельницы Z. Дело в том, что госпожа Z находилась в связи с одним лицом, и это лицо однажды, неожиданно приехав к ней, застал у нее лицо друга, тоже мужское. Приехавшее лицо произвело в сидевшее летящий выстрел и ранило руку сидевшего лица. Возник процесс. Слух о происшествии облетел весь город. Затрезвонили колокола и колокольчики газет. По злой иронии судьбы оба лица носили «городские» фамилии: одно — города отечественного, скажем — Грубешева, другое немецкого — назовем его хотя бы Кенигсбергом. Вскоре после этого, выражаясь названием рассказа Вяч. Шишкова, «рокового выстрела» в салоне у Сологуба состоялся очередной вечер. Под конец ужина, на котором присутствовала и госпожа Z, Федор Кузмич и произнес свой изумительный по остроумию спитч, укоряя в нем госпожу Z в отсутствии… патриотизма.
«Не стыдно ли было, — безустанно вопрошал он, — во время войны ездить уважаемой гражданке из русского города Грубешева в неприятельский Кенигсберг?» Эффект превзошел все ожидания: в гомерическом хохоте корчилась не только вся столовая, но и сама пострадавшая, кстати сказать, женщина весьма остроумная и ядовитая, не находя от неожиданного убийственного выпада слов для парирования удара, смеялась, малиново переконфуженная, до слез. Смелость подобного тоста граничила с дерзостью, и только одному неподражаемому Сологубу возможно было его простить.
4В один из званых вечеров я уединился в турецкой комнате с артисткой N. Мы долго с ней оживленно разговаривали и договорились в конце концов до бессловесных поцелуев. В разгаре их распахнулась дверь, и муж артистки, человек с большим в искусстве именем, предстал перед нами. Я приподнялся ему навстречу. Взволнованная актриса незаметно потянула меня сзади за фалды сюртука. «Александра (допустим, что ее так звали), пора домой», — произнес он в дверях, мастерски владея собой, и, не дожидаясь жены, быстро вышел из комнаты. Я, мужа, конечно не задерживая, пробовал удержать его жену. «Из этого может получиться слишком громыхательная история, — испуганно прошептала она, силясь пошутить и торопливо целуя меня на прощание. — Не провожайте меня, заклинаю Вас». Но все же, пока они одевались, я вместе с хозяевами стоял в дверях передней.
5Кстати, по поводу «громыхательных» историй. Не все избегали их. Были даже и любительницы таковых. Одна актриса, изредка встречаемая мною в доме Сологуба, совершенно серьезно просила меня в одну из «лирических» минут выстрелить в нее из револьвера, но, разумеется, не попасть в цель. «Это было бы отлично для рекламы», — заискивающе откровенно пояснила она.
Чеботаревская терпеть не могла, между прочим, этой американизированной нашей соотечественницы, принимая ее только из «дипломатических» соображений, и, когда я как-то вместе с нею приехал к ним, Анастасия Николаевна была более чем холодна с нею, а на другой день формально отказала ей письменно от дома. Оскорбленная и растерявшаяся жрица искусства спешно вызвала меня к себе через рассыльного и потребовала, чтобы я отправился к Чеботаревской объясняться. «Я в грош не ставлю ее, — плакала прелестница, — но мне для карьеры во что бы то ни стало нужно сохранить салон Сологуба».
Требование ее было попросту диким, но, каюсь, я был не совсем к ней, мягко поясняя, равнодушен и только поэтому, скрепя сердце, решил исполнить ее истерическое желание. «Я оберегаю Вас, молодого человека, от разлагающего влияния этой интриганки, — возмущалась Чеботаревская. — Мы с Федором Кузмичом любим Вас и заботимся. Да и вообще, на каком основании Вы взяли на себя роль парламентария?» Однако я категорически просил ее аннулировать утреннее письмо, на что негодующая Анастасия Николаевна долго упрямо не соглашалась. Целый вечер проговорили мы с ней, и лишь после того как я заявил, что от ее извинения перед госпожой Икс будет зависеть мое дальнейшее с четою Сологубов знакомство, вынуждена была нехотя согласиться. На другое же утро почтальон принес обиженной примирительное (внешне) письмо, в котором Анастасия Николаевна просила извинить ее за горячность.
6Вообще, Чеботаревская делила людей на две определенные категории: приемлемых и отторгнутых. В своих симпатиях и антипатиях она оставалась всегда себе верной. Периодическое издание, на страницах коего кто-либо осмеливался когда-нибудь хотя бы чуть неодобрительно отозваться о Сологубе, никогда уже не могло рассчитывать, при наличии данного редактора, на сотрудничество Сологуба. Она за этим следила зорко. Были люди — одни фамилии и имена — которые приводили Анастасию Николаевну в неистовство. Временами, правда, стали намечаться какие-либо точки соприкосновения, Чеботаревская с лихорадочной поспешностью стремилась использовать намечавшиеся возможности, но, едва возникали новые расхождения, она с новым пылом и подчас беспощадной, какою-то клинической резкостью, порывала всякие отношения. В своем боготворении Сологуба, сделав его волшбящее имя для себя культом, со всею прямотою и честностью своей натуры она оберегала и дорогого ей человека и, несравнимое имя его.
Всю жизнь, несмотря на врожденную свою кокетливость, склонность к легкому флирту и болезненную эксцессность, она оставалась безукоризненно верной ему, и в наших духовно обнаженных длительных беседах неоднократно утверждала эта некрасивая, пожалуй даже неприятная, но все же обаятельная женщина: «Поверьте, я никогда и ни при каких обстоятельствах не могла бы изменить Федору Кузмичу». И я, не очень-то вообще доверявший женщинам, ей верил безусловно: воистину сама истина чувствовалась в ее словах. Сологуб платил ей тою же монетой и, если на некоторых своих, в кругу ближайших людей, вакхических вечерах и истомлял себя какою-нибудь «утонченкой», дальше неги, каждому видной, дело не шло, в такой же «неге» нет измены, как понимают это слово углубленные.
7На интимных вечерах, когда после ужина гости переходили в зал и рассаживались кто на стульях, кто на диване, кто просто на диванных подушках на полу и пили коньяк и всех цветов радуги ликеры, как-то само собою гасло электричество, и зал погружался в темноту, нервно посмеивающуюся, упоенно перешептывающуюся, истомно вздрагивающую, мягко поцелуйную. Сологуб, любивший неслышную обувь, внезапно повертывал выключатель, и вспыхнувший свет заставал каждого в позах, могших возникнуть только без света…
Я должен констатировать, однако, что эти «томные» позы, порою очень непринужденные, нежащиеся и нежные, не выходили все же за грани дозволенного. Я имею в виду, конечно, дозволенного в мире людей искусства, так сказать, в богеме par excellance, ибо богема, например, «Бродячей собаки» уже несколько иной тональности: у Сологуба именитым мужьям не пришло бы в голову таскать за волосы своих не менее именитых жен, что могло произойти (однажды и произошло!) в знаменитом петербургском литературно-художественном подвале.
8Общую «рокфорность» интимных сологубовских вечеринок мне хочется заключить и эпизодом о рокфоре. Дарья Михайловна Озаровская и я с ужасом смотрели на этот сыр, готовый, казалось, уползти с тарелки. Ни она, ни я никогда раньше не решались его попробовать, хотя бри или камамбер я всегда очень любил. Федор Кузмич, посмеиваясь, сделал саморучно для нас два бутерброда, и мы… решились. Одновременно мы откусили по маленькому кусочку булки с «живым» этим сыром, с испугом и отвращением взглянули друг на друга и одновременно же бросились из столовой под веселый смех хозяев. Вернувшись, мы долго еще не могли в себя придти от «опыта», стараясь сардинками от Кано заглушить вкус проглоченного деликатеса.
А Сологуб в это время, блаженно щурясь и выпятив, по своей привычке, нижнюю губу, пил из узкой длинноногой рюмочки «ликерный ерш», разноцветными пластами в нее мастерски влитый. И смакуя его, предлагал испробовать и нам. Но проба рокфора была еще так свежа в памяти нашего вкуса, что мы предпочли ограничиться, выражаясь стихом Брюсова, выпустившего книжку «северянизированных» стихов под псевдонимом моей героини Нелли, «маленькою рюмкой triple sec Couantreau…»