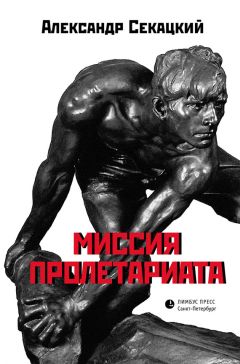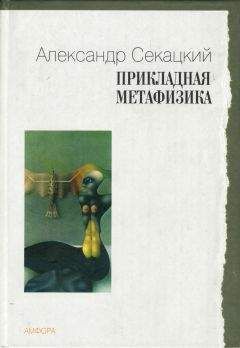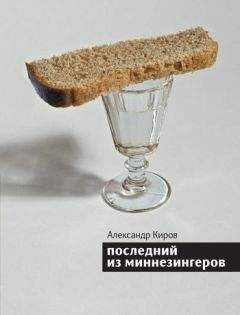Александр Секацкий - Последний виток прогресса
Мы видим, что Aufheben в обретаемой плоскости торжествует с легкостью, на которую не рассчитывал и сам автор «Феноменологии духа». При этом подвергается редукции и само «снятие», понимаемое как момент сохранения в превентивных и настигающих утратах. Пульс негативности не преодолевается в прежнем смысле этого слова, поскольку он вообще не прослушивается. Продолжающееся сосуществование различных типов «субъекции»[20] делает сопоставление особенно наглядным. Диалектическое сохранение-снятие больше всего напоминает обезвреживание мины без ее подрыва (но с риском такого подрыва). Взрывное устройство с диалектической пульсацией можно аккуратно извлечь из детонатора или подорвать на месте – в этом случае речь идет о становлении через негацию. Так, воля господина принимается рабом как собственная воля, но при этом обязательно происходит потрясение основ бытия: «Если оно (сознание. – А. С.) испытало не абсолютный страх, а только некоторый испуг, то негативная сущность осталась для него чем-то внешним, его субстанция не прониклась ею насквозь»[21]. Стать для себя бесконечным источником смысла или распознать (распробовать) чужой смысл как свой собственный – все это суть взрывоопасные революционные преобразования, когда самость растет, усиливается или гибнет благодаря одним и тем же неизменным силам противодействия.
И Маркс, критикуя Гегеля за принимаемую на веру имманентность мира и сознания, фактически подтверждает его правоту в смысле решающей роли негативности: производственные отношения заминированы и взрывоопасны в каждом своем акте. Диалектическая теория должна ставить флажки; диалектическая практика определит, произвести ли разминирование, обойти ли предупреждающий флажок (отложить решение) или взорвать на месте.
Процедура снятия в ПСК, кумулятивно расширяющая имманентность, уже не напоминает снятие мин. Тут больше подходит другая метафора – снятие как фотоснимок. Всегда можно сделать снимок, который сохранит и одновременно обезопасит встречное иное. В снятом виде (например, с помощью телекамер) противостоящее негативное не проникает внутрь: врач, рассматривающий флюорограмму, не подвержен риску заражения. Таким образом, преемником снятия как важнейшей «субъектообразующей» процедуры становится транспарация. Транспарация – это сквозное просвечивание, когда иное и негативное остаются лишь в виде темных пятен, – но и их, в свою очередь, можно просветить (транспарировать) или удалить. Transparance (прозрачность) оказывается точным термином еще и в том смысле, что является следствием и продолжением просвещения. Эпоха Просвещения успешно завершена, мир вступил в эпоху Транспарации.
4
Промежуточная апология
Как уже отмечалось, после периода непродолжительного энтузиазма философские установки Просвещения были подвергнуты безжалостной критике, достигшей своего пика в XX веке. Можно сказать, что усилиями лучших умов «иллюзии» Просвещения были развеяны (это не значит, что их удалось понять в моменте их собственной исторической правоты). Тезисы просветителей оказались весьма уязвимы – но такова была оборотная сторона наличия ясной программы. Ни один из критиков не смог предложить не только альтернативной программы, но даже и сколько-нибудь отчетливого проекта развития без «трех демократизаций». Еще хуже, впрочем, дело обстоит с отстаиванием идеалов просветительской миссии: этим делом занимаются едва ли не исключительно практические политики, действуя в теоретическом вакууме, где последними теоретиками являются Джеймс Стюарт Милль с Огюстом Контом или в лучшем случае Бертран Рассел. Обладатели метафизических претензий оказываются не в силах переступить границу пошлости – этот барьер выглядит непреодолимым даже для самой радикальной философии (то ли дело трансгрессия Батая или жертвоприношение Жирара).
Проблема состоит еще и в том, что цели Просвещения в принципе достигнуты (как всегда, незаметно) и больше нет необходимости провозглашать их в качестве целей. А инаугурация повседневности всегда вызывала аллергию у подозрительного субъекта, и уж тем более у философа. Вспомним компендиум Вольтера, Руссо, Монтескью и Кондорсе: смягчение нравов, обуздание агрессивности, искоренение предрассудков, преобразование непокорного, жестоковыйного естества, предсказуемость, прозрачность и позитивность социального устройства… Что ж, все это в наличии, стоит лишь применить усилие опознавания (далеко не пустяковое, впрочем, усилие). Конечно, в каком-то смысле реализация просветительской программы напоминает анекдот об исполнении желаний золотой рыбкой: пожелаешь никогда не состариться – и умрешь молодым. Опять же чудовищные эксцессы от иприта до Аушвица и ГУЛАГа. Но эксцессы с полным на то основанием можно рассматривать как уклонения от просветительского проекта (во всяком случае, Адорно и Хоркхаймеру не удалось доказать обратного), а расстилающийся горизонт ПСК предстает тем не менее как земля обетованная для вольтеровского Кандида. Попробуем предоставить слово господину Транспаро Аутисто, автору фундаментальной «Критики подозрительного субъекта».
«Вопреки всем скептикам мы можем констатировать: просвещенному человечеству удалось избавиться от множества предрассудков – и это великое достижение, хотя сегодня его принято недооценивать или вовсе не замечать. Никого больше не смущает цвет кожи, во всяком случае, никто не решается заявить об этом публично. Подобная "нерешительность" есть безусловное достижение, сколько бы нас ни обвиняли в замалчивании. Мало ли к чему может придраться сознание извращенного индивидуума в поисках интеллектуальных приключений? Скука, возникающая при повторении известной истины, сама по себе эту истину отнюдь не дискредитирует, а требование элементарной благодарности состоит в том, чтобы не забывать, какой дорогой ценой достались уют и комфорт. Может быть, не так уж и плохо было бы распространить простое правило вежливости и на философский дискурс: кое о чем умалчивать, а кое-чего и не замечать… Вместо этого рыцари метафизики, напротив, зациклились на пробелах тактичности, не уставая демонстрировать свою орлиную зоркость и столь же чуткий слух по отношению к скрипу своей колыбели.
Открытость и приветливость облегчают жизнь общества и каждого индивида, если же кому-то покажется, что все это слишком просто, пусть примет во внимание тысячелетний труд истории, понадобившийся для упрощения. Соблюдая естественные нормы приличия, совсем не трудно разоблачить их искусственность, гораздо труднее (но и интереснее) проследить и объяснить траекторию их внедрения до уровня естественности. Но опять же субъекту привычного изощренного дискурса кажется, что было бы слишком много чести тратить свои теоретические усилия на легитимацию естественных норм.
Как бы там ни было, успехи Просвещения в деле искоренения предрассудков не вызывают сомнений – в отношении подозрений дела идут не столь успешно. Прозрачность новой социальной среды, ПСК, замутняется именно подозрениями, для решения возникающих проблем приходится применять всю изощренность разума, но это все та же изощренность, к которой прибегали обитатели платоновской пещеры. Настало время выявить и классифицировать «основные подозрения», подобно тому как Фрэнсис Бэкон классифицировал когда-то основные предрассудки. Задача избавления от этих «идолов» плавно перешла в проект Просвещения. Априорные механизмы, предшествующие рассудку, Кант представил в качестве устройства трансцендентального субъекта; не следует забывать, что имелось в виду своеобразное съемное устройство, используемое трансцендентальным единством апперцепции – «просто» субъектом, сгустившимся из подозрений подобно облаку на ясном небе.
Вот и рационализм Декарта начинается с исходного подозрения: не обманывает ли меня сам Господь Бог, раз уж все окружающие, мои собственные чувства и память то и дело обманывают меня? При тщательном рассмотрении подозрение снимается: Бог не обманывает, но лишь потому, что обман – это нечто невещественное и как таковое недоступное Богу, для которого все помысленное есть одновременно и нечто сущее. Подозрение снимается, однако остается осадок – он-то и именуется субъектом. Как только ни защищали подлинность этого осадка, его способность противостоять сильнодействующим растворителям, но разделить несмываемое и наносное теория так и не смогла; подобная возможность обнаружилась лишь в ходе реализации проекта Просвещения.
Всмотримся в замкнутый круг подозрений, не слишком изменившийся со времен Декарта: многие из них сбываются, но и несбывшиеся подозрения с тем же успехом формируют среду субъекта. Более того: даже если все возникающие подозрения оказываются безосновательными, последствия их возникновения все равно приводят к "нужному" результату. Стало быть, подобно Просвещению, поставившему задачу высветить все предрассудки, затмевающие lumen naturalis, наступающей эпохе Транспарации предстоит прояснить (приостановить) укоренившуюся манию подозрительности. Следует подвергнуть транспарации самую закрытую для имманентной рефлексии границу – кромку внутреннего мира.