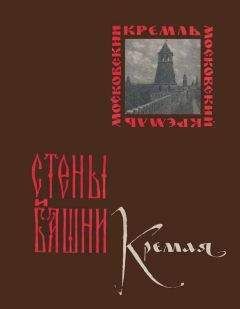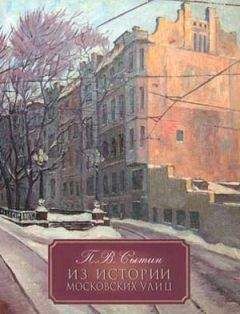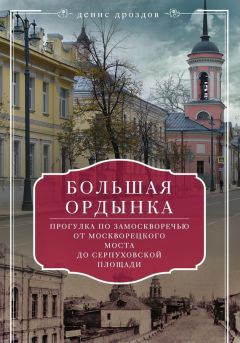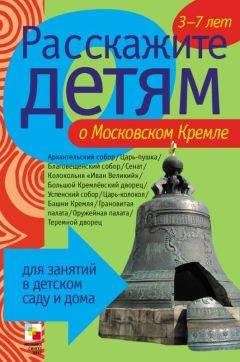Леонид Репин - Рассказы о Москве и москвичах во все времена
Сын знаменитого булочника перестроил дом — поставил высокий, красивый, и в первом этаже тоже торговлю открыл. Таким дом и сохранился до нашего времени, выстояв во всех революциях, войнах, словно бы оберегаемый добрым духом хлеба.
Помню, бабушка моя не раз говорила о хлебе филипповском: «Во рту таял, а дух-то — как из листоранта! А теперь что?» — и морщилась. Ну морщилась-то напрасно: тогда еще и у нас неплохой хлеб был. А подлинный, филипповский, как Гиляровский рассказывает, считался и вовсе неподражаемым. Даром что и в Петербурге пытались такой печь — а не получалось: вода не та. Сам Филиппов в том уверял. Но и не только вода: ржаную муку доставляли ему из одного только места — с тамбовской земли, из-под Козлова, и с мельницы только одной, отобранной любовно и тщательно. Ну а о самой выпечке и говорить не приходится, лучшие мастера своего дела, виртуозы, каких более, может, и не было, работали на Филиппова. Вот и слава шла о московском хлебе с Тверской на всю Россию.
Тверская улица в конце XIX векаЗаглядывали сюда в те времена не только за хлебом: в XIX веке сын Ивана Филиппова открыл здесь кофейню, где собирались и уважаемые господа, и темные личности, и сыщики, за ними приглядывавшие. Место это давно еще как бы вызрело: и при прежнем хозяине в углу филипповской булочной толпились всякие люди — гимназисты, студенты, военные, барышни, дамы. И что их влекло сюда, кроме умопомрачительно вкусного, воистину волшебного запаха хлеба? А пирожки. Изумительные, горячие прямо из печи пирожки с грибами, изюмом, творогом, мясом, вареньем, крутыми яйцами стоили столько, что и бедный мог позволить себе. Даже модным считалось позавтракать в филипповской булочной. Особая атмосфера образовалась за этими стенами, маленький мир со своими законами и неизменно добрым отношением ко всякому, кто сюда заходил.
Во время войны, когда хлеб продавался по карточкам, а были они разного цвета в зависимости от социальной принадлежности советского винтика-обладателя (рабочий, служащий, иждивенец), продавец в булочной стоял с огромным тесаком для резки хлеба и ножницами для усечения карточек: на каждом талоне обозначались граммы, по которым хлеб отпускался. И еще прямоугольная фиолетовая печать стояла на карточках с адресом булочной — все прикреплялись к какой-то одной, своей, по месту жительства.
Однажды товарищ угостил меня во дворе белым хлебом с маслицем — дал откусить, и восторг меня обуял — необычайно вкусным хлеб оказался, с корочкой хрустящей, легко во рту рассыпающейся. Никогда такого хлеба мне не приходилось отведать!
Оказалось, отец товарища, какая-то крупная шишка, был прикреплен к знаменитой булочной на Тверской. Тогда я еще не знал, что филипповской она называлась. Упросил я товарища взять меня с собою за хлебом. И все показалось мне удивительным: везде очереди — часами приходилось за хлебом стоять, а здесь никого. На входе строгий дяденька тщательно карточки у всех проверял. Нас пропустил. И замер я от густого хлебного духа и от золота на стенах и потолках. Будто во дворец какой-то попал…
Сейчас, спустя пол века, иногда захожу. Ну что сказать… Расстройство одно. Разнокалиберные прилавки открывают соцветия тортов, всякие заграничные сладости, горделиво возвышается стенд с собачьей и кошачьей жратвой. В углу, справа от входа, — столики, кафетерий как будто, а на самом деле — пивнушка. А хлеба что-то не видно и не слышно совсем… А, вот он, отдел в удаленном закоулке: лежат два темных кирпича черного хлеба да три батона голеньких. Вот и выбор весь. И хлебный дух, едва ли не век царивший здесь, улетучился. Да что там дух, на фасаде под хлебной вывеской открылся магазин итальянской обуви. И все это — в старом филипповском доме…
Нет, не умеем хранить мы дорогие запахи прошлого…
В Английском клубе шла игра…
Нет, далеко не всяк вхож сюда, в этот изумительный красный дворец с белыми колоннами под фронтоном фасада, в это самое красивое и самое древнее здание на Тверской. Все вокруг горело зимой 1812 года, когда жалкие остатки наполеоновской армии тащились мимо, Тверская полыхала, а дом устоял, как несокрушимый утес в море пламени… Не всяк был вхож в Английский клуб, а лишь избранные в члены его тайным голосованием, и то после длительного знакомства и множества собеседований с каждым. Даже Гиляровский не был удостоен чести состоять членом этого клуба, хотя и был частым гостем. Именно он и оставил подробнейшее описание устоев и порядков, принятых за этими стенами. Хотя и Лев Толстой его описывал, и Грибоедов, и Пушкин, и Герцен, и другие великие.
Не всегда располагался здесь Английский клуб, а лишь с 1831 года. Прежде принадлежал этот дворец в самом центре Москвы поэту Михаилу Матвеевичу Хераскову, построившему его совместно с братом, генерал-поручиком, во второй половине XVIII века. Здесь тайно собирались первые московские масоны, среди которых, разумеется, был и сам хозяин. После войны 1812 года дворец купил граф Разумовский, решительно пристроивший боковые изогнутые крылья флигелей. И надо признать, еще красивее дворец этот сделался. Вот тогда-то и перебрался сюда Английский клуб.
Женщин под эти своды ни под каким видом не пускали — даже уборщиц и кухарок. Разве что в хоре им петь дозволялось. Мужские дела творились за этими стенами: обсуждались последние новости в политике и придворные новости, доходившие в Москву с некоторым опозданием. В уютной тиши маленьких залов вершились миллионные сделки и, конечно же, крутилась большая игра, где под заклад ставились имения целиком, с крепостными. И в бильярдной во втором этаже состояния проматывались.
Гиляровский во время своего последнего посещения клуба еще застал китайский бильярд, на котором азартный Лев Николаевич Толстой просадил какому-то офицеру аж тысячу рублей. А денег не было! Скандал грозил разразиться вселенский! Тут подъехал деликатно к графу-писателю некто Катков, редактор «Русского вестника», и на определенных условиях предложил деньги взаймы. Толстой расплатился, а вскоре в журнале Каткова появилась повесть «Казаки». Пушкин тоже в должниках тут ходил, едва не отчислили его из членов клуба за неуплату взносов. Писал жене: «В клубе не был, чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет, надобно будет заплатить штраф триста рублей, а я бы и весь Английский клуб готов продать за двести».
А какие пиры затевались здесь! Ежели что-нибудь новенькое появлялось, чего не знала еще Москва, то сразу сюда, на пробу. Устрицы всяких сортов, рыбка изысканная — обязательно по сезону — когда лососинка, когда семужка. И настоечки различные по сезону готовились — на березовых почках, на травах российских, на листьях — все по рецепту особому, клубному.
Потом обосновался здесь Музей революции, вернее, сразу трех революций, с первой выставки нового времени — «Красная Москва», открывшейся в 1922 году.
Ходили и мы, конечно же, мальчишками в этот музей. С конструктивным интересом разглядывали мортирки маленькие, пулеметы всякие, другое оружие времен Гражданской, знамена красных полков, фотографии старинные блекло-кофейного цвета. Интересно нам было здесь. Но более всего врезалась в память выставка подарков новому вождю мирового пролетариата товарищу Сталину на его день рождения в 70 лет. Наверное, вождь не знал, куда девать столько подарков, разместил их на время в музее и разрешил нам посмотреть. Вот это были подарки!
Автозаводы изготовили изумительные автомобильчики — копии своих последних моделей, чтобы вождь, отрешаясь от государственных дел, мог поиграть с ними немного, кинжалы и сабли сказочной красоты с инкрустацией золотом. А табачная фабрика «Ява» изготовила модель Кремля из плиточного табака и папирос. Если аккуратно покуривать, надолго может хватить. Конфетный гигант «Красный Октябрь» тоже ничего, кроме шоколадного Кремля, не придумал, а отказаться от столь оригинальной идеи тогда было просто немыслимо. Меня же поразил один невзрачный экспонат: микроскоп, возле которого прохаживался печальный мужчина. Мы часами стояли в очереди, чтобы попасть в музей, и, уж конечно, не уходили, не осмотрев всего досконально. Так вот, на предметном столике того микроскопа лежало обыкновенное зернышко риса. Печальный гражданин, увидев мой искренний интерес, предложил заглянуть в окуляр микроскопа. Я приложился к тубусу — и обомлел: на зернышке был выцарапан портрет товарища Сталина! А чтобы сомнений не оставалось, стояла и подпись: Сталин. Не знаю, куда подевалось то зернышко — может, вождь приказал из него кашу для неимущих сварить, может, в щель какую-нибудь закатилось, а память о нем осталась.
Сейчас, если зайдете, порадуетесь. Великолепная роспись на потолках подлинная, как когда-то, мраморные стены сияют первозданной белизной, хотя и покрыты местами мелкими трещинами. Трещины те — как морщины, от них не избавиться. Мраморные колонны как будто только-только поставлены. Забрался я, увлекаемый любопытством, и на чердак, и там порядок: могучие, «родные» стропила — высокие, мощные, из дерева, которые кажутся каменными теперь.