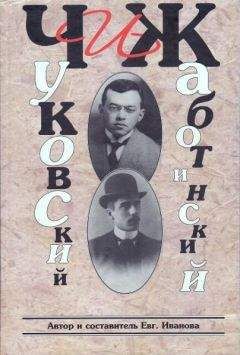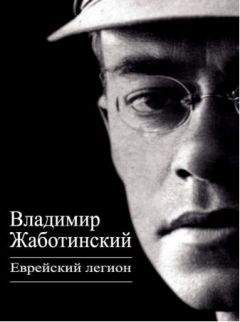Моше Бела - Мир Жаботинского
Как всегда бывает у свежей могилы, в которой покоится молодая жертва, появляется желание облечься в траур, тем более, что час этот — час скорби для всего еврейского народа. Хочется забыть хотя бы на миг ту атмосферу ненависти и лжи, которой последние годы дышало сионистское движение. Хотелось бы хоть семь дней траура провести в чистой человеческой скорби. Однако даже это не выпало на нашу долю, на долю сионистов. Как видно, личная жизнь не для нас. В поистине звериной атмосфере развивается наше еврейское существование. Над свежевырытой могилой, в первое же мгновение после постигшего нас несчастья тошнотворная политическая спекуляция начала вышивать свои узоры только что пролитой кровью. Люди, желающие удостоиться титула «народных вождей», воспитатели масс, не захотели позволить себе даже одного часа личной скорби. С первой же минуты они затеяли над могилой политическую свистопляску. Они думают только о том, как «использовать» случившееся в своих ничтожных коммерческих предвыборных интересах. Каждый знает, что это, и только это, кроется за их словами, что их скорбь в тысячу раз меньше их спекулятивных интересов. Это написано на их лицах, на всем их поведении, это заметно всем, об этом говорят на каждом углу.
Хаим Арлозоров — человек, который не хотел бы, чтобы подозрение пало на еврея. Но эти зоологические подобия человека во сне видели, мечтали с самого начала только об одном: о, если бы это был еврей! С самого начала они распустили слухи, что убийца, которого будут судить на предстоящем суде,— еврей. С бьющимися сердцами ожидали они вестей из Эрец Исраэль, бледные от страха, чтобы, не дай Бог, убийца не оказался неевреем. И они с облегчением вздохнули, испустив победный вопль отвратительного ликования вампиров, когда телеграф принес весть, что полиция арестовала еврея, слава Богу.
Нет, мы не удостоились и часа человеческой скорби — ни мы, ни они. У них скорбь растворилась в жажде политических спекуляций, у нас — в чувстве брезгливости при виде картины этого зоологического падения.
Никогда еще наш еврейский мир не видел такого яркого отражения психологии погромщиков. Это новая, неожиданная черта ассимиляции: ассимиляции с погромщиками. Они во всем подражают поступкам и действиям, которые были свойственны погромщикам в подобной ситуации. Погромщик не желает дожидаться решения суда. Ему достаточно того, что полиция схватила «кого надо» — само собой, еврея. Он не хочет знать, что подозрение полиции еще далеко не является доказательством вины. Ему неведом древний священный закон человеческого правосудия, что обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока суд не доказал его преступления. Нет, у них нет времени, они должны «использовать» подходящий момент, они мгновенно становятся — они, рыцари прогресса! — восторженными поклонниками полиции, они верят только ей. И они сердятся, когда им напоминают, что полиция — это та же самая полиция, которая должна бы вести расследование не в еврейской среде, а в том месте, где до сих пор скрываются необнаруженные убийцы Ягура и Нахалеля. Все это они забывают в суматохе своей великой радости: да здравствует полиция, арестовавшая еврея, который, без сомнения, виновен! Нет ничего нового в мире: мы помним эту психологию подстрекателей погромов, помним ее со времени процесса Бейлиса.
И еще одному они научились от гойских подстрекателей погромов: обращать подозрение, павшее на одного еврея, против всего общества, несмотря на священное правило: даже если ты веришь, что Шимон бен-Йосеф преступник, ты не имеешь права возводить на этом основании обвинение против целой общины. Ведь это та же самая вредоносная разъедающая система мотивировок, от которой мы больше всего страдали, мы, евреи, столь многие из нас... Они забыли это, они хотят похоронить не только человека, схваченного полицией и скорее всего невиновного, они хотят «использовать» это с целью утопить целый стан людей, живущих и борющихся во имя чистых возвышенных идеалов,— в точности так, как это делали Лютостанский, Замысловский[*] и другие их учителя.
«Человек», «ди Велт» («Мир», идиш), 21.6.1933.Катастрофа
«Вот катится этот народ по склону в последнюю пропасть смерти».
Первая «сионистская» речь Жаботинского в «русской колонии» Берна вызвала недоумение и раздражение заявлением, что еврейский народ в галуте дождется своей «варфоломеевской ночи», если не вернется в Эрец Исраэль («Повесть моих дней»). Правда, молодой Жаботинский в то время еще не занимался глубоким изучением проблем еврейского народа. Но предчувствие кошмара «варфоломеевской ночи» направило его на путь создания еврейского государства. А на еврейской улице царила атмосфера «all right» даже после захвата власти нацистами в Германии, что очень беспокоило Жаботинского с весны 1933 года:
Иди же сюда, уважаемый читатель, я покажу тебе «all right». Начнем, конечно, с центрального пункта нашего «нахеса» — с Германии.
Помнишь ли весну 1933 года? А сейчас уже и того хуже. Тогда ведь была весна. А весной человек наивен, и по своей наивности мы верили, что весь мир восстанет против нацистов, не потерпит такого, что мир их изолирует и подвергнет бойкоту.
Между тем, цивилизованный мир привык к некоторым из новых идей, как то: нет никакой нужды чем-то маскировать антисемитизм, можно его придерживаться открыто и официально и даже внести в законодательные кодексы. Далее, антисемитизм — дело весьма прибыльное, так как посредством его можно отбирать у евреев клиентов и покупателей и отдавать их «своим людям», т. е. торговцам, адвокатам и врачам «арийцам» (или христианам). И, наконец, самое важное: никто не возмутится, никто не выкинет антисемитов из приличного общества, даже Англия.
Есть дистанция громадного размера между весной 1933 и нынешним летом: тогда в Берлине больше били, но евреи не были столь неинтересны миру. Сейчас бьют меньше, но на евреев уже всем наплевать, и весь мир знает секрет. И потому повсюду вырастают ужасные опухоли — и по соседству с германской границей, и в тысяче миль от нее. Эти опухоли покуда мягки и нежны, но они растут и растут и скоро совсем вырастут, и тогда у нас будет снова «много счастья на века» и в других городах и местечках, иногда не с тем талантом и сноровкой, что в Берлине, а иногда, может быть, и с большими. Короче, all right.
«И не встрепенулся, и не вздрогнул, и не потрясся», «ха-Ярден», 9.8.1935.И уже без сарказма, но с гневом обращается Жаботинский к своему народу, к своим братьям, уверенным, что топор не поднимется на них:
В одном из стихотворений Бялика есть следующие строки: «И не встрепенулся, и не вздрогнул, и не потрясся». Грянул гром, и задрожала земля, но народ не содрогнулся. Они были, надо думать, храбрыми людьми, которых просто так не испугать: пущай себе гремит гром да сверкает молния, пусть себе земля трясется, как в лихорадке,— им не страшно. Это героизм особого рода. Героизм не меньший, чем у овец, которые тоже относятся к той разновидности удивительных животных, умеющих не бояться даже там, где лев дрожит от страха. Овца может спокойно и без страха смотреть, как пастух режет ее собратьев одного за другим, и ей даже в голову не приходит гениальная мысль, что вот сейчас и к ней пожалует пастух.
Героизм — весьма сложное понятие; иногда это синоним идиотизма. Мы не были бы правы, если бы утверждали, что только мы, евреи, одарены этим видом мужества. Весь мир заслуживает этого комплимента: он стоит на одной ноге посреди узкой доски над пропастью. Пропасть глубока, доска чудом держится, и к тому же его толкают с двух сторон, и к тому же доска горит или, напротив, она влажная и скользкая и т.д. и т.п., короче, положение дрянное и отчаянное. Самсон-богатырь, Геракл, архангел Гавриил тряслись бы от страха в такой ситуации. Но современный нам мир, бесстрашное человечество 20-го века не боится. Если бы ему было страшно, оно попробовало бы одно из двух: либо сойти с доски, либо укрепить ее, но человечество не думает ни об одном из этих двух выходов. Оно продолжает стоять на одной ноге над пропастью и даже мило болтает о том, что там внизу — острые скалы или топкие болота.
Там же.Зияющая пропасть разверзлась — в этом больше не было сомнений. Но, несмотря на это, народ «не встрепенулся, не вздрогнул, не потрясся». Он не понял еще, что единственная защита в том, что Жаботинский назвал эвакуацией (см. ст. «Эвакуация»):
Я уже не помню, кто из русских писателей написал рассказ, а может, это была статья, под названием «Не страшно». Он доказал в этом рассказе, что самые страшные и ужасные вещи выглядят, в общем-то, совершенно буднично. Мы проходим мимо, не замечая, что мы стоим перед ужаснейшим из всех «нестрашных» явлений: народ, который сжигают, топят, чье тело точит рак. И все это видят, и все видят, что лекарства нет. И не содрогнулся, и не потрясся народ. Как будто ничего необычного не случилось. Это даже не апатия, не безразличие — наоборот, все живет и кипит. Говорят, кричат, выламывают руки и ноги, но разговоры все — о прошлогоднем снеге, что давно стаял, а крики — вопли «ура!». А флаги — не хочется говорить, почему спущены флаги. И так валяется в грязи многомиллионный народ, партнер Бога и живой свидетель деяний Божьих три тысячелетия тому назад, народ, полный сил и талантов. Может быть, прекраснейший из всех племен и языцев, если бы только нашлось для него место на земле,— и вот он валяется и катится в небытие, в последнюю пропасть забвения. И ему шепчут на ухо, что стоит утешиться «алией» нескольких дюжин вместо исхода из Египта и возвращения в Сион десятков тысяч несчастных, которым уготовано истребление.