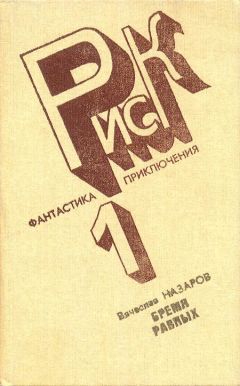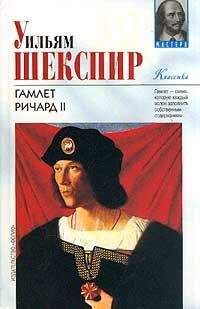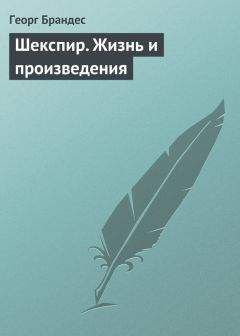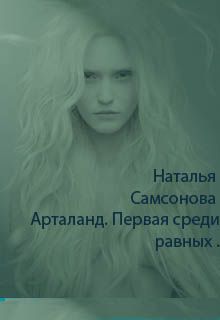Наталья Иванова - Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век
Сто пятьдесят лет со дня смерти, круглая дата.
«На фоне Пушкина» осторожно переходить сложный идеологический перекресток как-то проще. Объединяющий — пока еще — миф? Быть может. Но что уж точно, так — не разъединяющий.
Коммунистическая идеология еще вполне активна в формальном воспроизведении самой себя: в «ЛГ» из номера в номер печатается фотоальбом под названием «Эпоха Октября: время в образах».
Октябрю — семьдесят, год юбилейный; и шинельного цвета обложку ноябрьского номера «Знамени» тоже украшает динамичный профиль Ильича.
В юбилейном номере «Нового мира» (перед первой в отечестве публикацией цикла стихотворений нобелиата 1987 года Иосифа Бродского) печатаются неожиданное в общем контексте мрачного Юрия Кузнецова «ленинское», антисталинское стихотворение Евгения Евтушенко плюс статья Игоря Клямкина «Какая улица ведет к храму?», казавшаяся чрезвычайно смелой но тем временам (публикуется редакцией в качестве «первой из ряда работ, в которых обсуждаются проблемы советской истории»), — и в этой статье одним из главных является вопрос о том, «вычеркивать ли Сталина из нашей истории?…оздоровляет ли наш духовный организм такого рода хирургия? Ведь если не ответить себе, почему было то, что было, то никакое покаяние не поможет…»
Реабилитация истории — один из структурообразующих мотивов 1987 года.
Среди литераторов складывается несколько отчетливо противостоящих друг другу групп понимания истории. Назову хотя бы три, четко обозначивших себя: либерально-антисталинская, советско-интернациональная и консервативно-патриархальная, но тоже с советским окрасом.
Свободный от догматизма Яков Гордин («ЛГ», № 47) свою задачу понимает как восстановление реальной российской истории без принудительного пиетета перед идеализированными и мифологизированными советской властью «монументами». Консерватор Михаил Алексеев выступает в № 3 «ЛГ»: «Нельзя поправлять историю». Или, скажем, заигрывающий с почвенниками «интернационалист» Феликс Кузнецов в беседе с историком Юрием Поляковым («Минувшее: полная правда!», «ЛГ», № 40) понимает реабилитацию истории как защиту правоты М. Горького.
История гримируется в забавнейшем, на нынешний взгляд, материале: беседе «на троих» — исполнителей роли Ленина в спектаклях по пьесе М. Шатрова «Так победим» Калягина, Лаврова и Ульянова. «Написал пьесу коммунист Шатров, ставит коммунист Ефремов, завлит — коммунист Смелянский…» И тем не менее и на этой высокоидейной территории возникают свои сложности: «И всем шьют политику…» («ЛГ», № 40).
«Брестский мир», опубликованный в «Новом мире», — где Троцкий не манекен для битья, а, как пишет Клямкин, «персонаж с правом голоса», — реабилитация истории но Шатрову. «Нам показывают не "разгром троцкизма", а диалог с ним, живой и полный драматизма. Показывают историю», — замечает Клямкин, и не подозревающий о том, что и Троцкий, и Ленин, и весь их диалог, и пьесы Шатрова, и Михаил Ульянов в роли Ленина, скандально ставший на колени перед Лановым в роли Троцкого (вахтанговский спектакль, постановка Р. Стуруа), — все это будет вскорости заметено песком грядущего времени, следующего бурного десятилетия. «Сегодня, семьдесят лет спустя после Октябрьской революции, — продолжает Клямкин, — нужно отчетливо себе представить: мы переживаем совершенно новый этап не только советской, но и национальной, и мировой истории». И заканчивает: «Углубленное изучение законов реального социализма — это не побочная, не второстепенная… задача самой перестройки».
В результате «углубленного изучения» оборвалась сама советская история.
2По выработанной четкой идеологической схеме история восстанавливалась в целях очищения социалистической идеи. За выходом к зрителю фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние» (по курсирующим тогда слухам, получившего непосредственную поддержку генсека компартии Грузии Эдуарда Шеварднадзе) последовали официальные его трактовки: «Мы в последние годы редко касались этой трагической, очень серьезной темы (в статье — темы никак не названной; sapienti sat. — Н. И.). Но ведь прошлое, которое не "ворошим" мы, за нас охотно ворошат наши враги! Да еще как "ворошат" — злорадно, напористо, с улюлюканьем! В ход идет все: и подтасовки, и самая махровая клевета!.. Впрочем, черт с ними, с врагами! К их всегдашней лжи и ненависти нам не привыкать! Да и живем мы не для того, чтобы им понравилось» (Р. Рождественский. Совсем не рецензия. «ЛГ», № 4).
И. Клямкину казалось, что он переживает момент очищения. Что рядом с восстановленными в своей подлинной, по его мнению, исторической роли Троцким и Бухариным будет очищена сама советская жизнь, будет очищен сам социализм.
О, октябрьской победы бессмертный кумач,
Он на подвиги сердце зовет.
Мы за мир! На решение новых задач,
В бой за правое дело! Вперед!
Это стихи из того же номера «Знамени», где под рубрикой «70 лет Великому Октябрю» печатается очерк Луначарского о Ленине — «уникальная личность вождя пролетарской революции», а также статья Ю. Апенченко «Недоделанные дела. Путь Октября и пути перестройки» (и тут же — «Крестный отец» Марио Пьюзо). И только А. Латынина в том же номере осторожно предложила — попробуем все-таки «Договорить до конца»… Но такие (даже, повторяю, пока еще осторожные) призывы были среди либеральной интеллигенции единичными. Казалось, что, очистив атмосферу от зловонных испарений сталинизма, а также от «застойных явлений», общество очистит реальный (термин еще конца застоя, изобретенный «интеллектуалами», помощниками-референтами генсека) социализм. И среди публикаций современной, но тоже «отлежавшей» свое прозы, среди общественно-литературных событий года («Дети Арбата» Анатолия Рыбакова в «Дружбе народов», произведшие шок и переворот в массовом сознании, сознании самого рядового человека; «Белые одежды» Владимира Дудинцева в «Неве»; «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина в «Знамени») трудно найти произведение, которое подвергло бы сомнению саму социалистическую идею.
Под каждой из публикаций многозначительно стояли цифры, обозначавшие давнопрошедшее время создания.
И даже под событийными дебютами года они тоже стояли: под «Капитаном Дикштейном» Михаила Кураева и «Смиренным кладбищем» Сергея Каледина.
Слаженная по-своему оппозиция двух противоположных хоров — хора похвал, восторженных отзывов и рецензий, а также хора негодующих разоблачений и ненависти по отношению к авторам безусловных бестселлеров — иногда нарушалась спокойным, сдержанным разговором о качестве, воспринимавшемся настороженно. Так, Алла Латынина всего лишь предположила, что повесть Приставкина, скорее всего, благополучно перейдет на полку детской литературы, — что вызвало, в свою очередь, недоумение, переходящее в негодование в стане либеральной публики.
Та же самая история произошла и с Аллой Марченко, дерзнувшей оспорить тезис о художественном совершенстве «Белых одежд». Чисто эстетический подход воспринимался как консервативное стремление помешать общественному и литературному прогрессу.
Где Приставкин, где Набоков — либеральной критике разобрать было трудно: оба проходили по разряду «освободительной» литературы. Надо сказать, что простодушные критики и не скрывали собственную методологию: например, рассуждая об айтматовской «Плахе», Андрей Нуйкин, один из самых известных своей приверженностью к идеалам демократического общества публицистов, замечает: «…споры отнюдь не о поэтике романа, нет, — споры социальные, проблемные» («Новое богоискательство и новые догмы». «Новый мир», № 4).
Прошлое не только обретало новую жизнь в настоящем — оно становилось сверхнастоящим, актуальным, горячо обсуждаемым. Настоящее как бы отходило на второй план — происходящим под знаком реабилитации реального прошлого «очищением реального социализма».
Строго говоря, публикация поэмы Твардовского «По праву памяти» была для литературной общественности, управлявшей тогда «теченьем мыслей», а значит, хоть отчасти, но — страной, поважнее литературы современности. Вернее, современность существенно корректировалась прошлым и кормилась этим прошлым. Поэму Твардовского напечатали дважды: в «Знамени» (№ 2) — еще и в качестве обозначения избранной новым редактором, Григорием Баклановым, линии, и в «Новом мире» (№ 3) — обновленная приходом Игоря Виноградова, Анатолия Стреляного, Олега Чухонцева редколлегия публикацией Твардовского обозначала преемственность своей деятельности.
Умножившееся количество публикаций свидетельствовало о попытке возрождения через прошлое: в 1986-м в «Новом мире» их три, в 1987-м — шестнадцать. Среди них столь значительные, действенные для изменения литературно-общественной ситуации, как «Котлован» Андрея Платонова, «Погорелыцина» Николая Клюева, «Стихи о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама. Впервые напечатан в советском издании Владимир Набоков — в журнале «Шахматы в СССР»; затем в «Москве» (№ 12) с предисловием О. Михайлова опубликована «Защита Лужина»; перевод набоковской лекции о Гоголе в «Новом мире» предваряет вступление Залыгина. Напечатана «Элегия» Александра Введенского с предисловием В. Глоцера, в котором достаточно осторожно, при помощи эзопова языка говорилось об аресте и расстреле поэта.