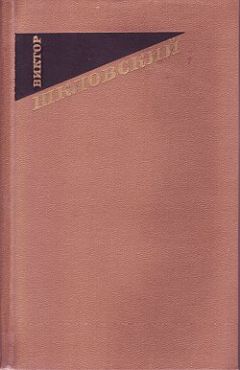Викентий Вересаев - Живая жизнь
Да, несомненно: все это устами Ницше говорит сам Аполлон, бог гармонии и живой жизни. И, конечно, как для Толстого, как для Аполлона, так и для Ницше отсюда вовсе не вытекает самодовольный вывод Макса Штирнера: «Во всякий момент мы бываем всем, чем мы быть можем, и не должны быть чем-то большим». Эти «мы» — о, совсем не к ним обращается Ницше со своим призывом стать свободным от морали! Мы видели — современного человека Ницше считает возможным, лишь обрезывая его, для нынешнего человека «никакая узда не была бы достаточно строгой». «Современный человек, — говорит Ницше, — представляет собою в биологическом отношении противоречие ценностей, он сидит между двумя стульями, он говорит сразу «да» и «нет». Мы, если нас рассматривать с физиологической точки зрения, — фальшивы».
Значит, опять и опять, — «человек есть нечто, что должно преодолеть. Что велико в человеке, это то, что он мост, а не цель; что можно любить в человеке, это то, что он переход и гибель. Так говорил Заратустра».
Это «преодоление человека» должно происходить во имя жизни, во имя развития здоровых инстинктов жизни, чтоб сама мораль его была торжествующим проявлением этих здоровых инстинктов. А такая здоровая мораль заключается в следующем:
«Злое — лучшая сила человека. Человек должен стать лучше и злее, — так учу я», — сурово объявляет Заратустра.
Злее? Но почему же именно злее? Почему именно злое составляет лучшую силу человека?
Случилось это во время франко-прусской войны. Молодой Ницше был начальником санитарного отряда. Ему пришлось попасть в самый ад перевязочных пунктов и лазаретов. Что он там испытал, об этом он и впоследствии никогда не мог рассказывать. Когда, много позже, друг его Эрвин Роде спросил его, что ему пришлось видеть на войне в качестве санитара, Ницше с мукою и ужасом ответил:
— Об этом не надо говорить, это невозможно; нужно гнать от себя эти воспоминания!
И вот однажды, ошеломленный ужасом от всего виденного, с сердцем, почти разорвавшимся от сострадания, Ницше вышел на дорогу. Вдали послышался быстрый топот, звон и шум. И мимо Ницше, как сверкающая молниями туча, пронесся в атаку кавалерийский полк. Молодые, здоровые, сильные люди радостно и опьяненно мчались туда, где многие из них найдут смерть, откуда других потащут на те же перевязочные пункты с раскроенными головами, с раздробленными суставами, с распоротыми животами.
«И я почувствовал тогда, — рассказывает Ницше, — как хорошо, что Вотан влагает в грудь вождей жестокое сердце. Как могли бы они иначе вынести страшную ответственность, посылая тысячи на смерть, чтобы тем привести к господству свой народ, а вместе с ним и себя».
Позвольте! И это все мы где-то уже слышали. Где же именно?
«Все… ну, напр., хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и т. д., - все до единого были преступники, и уж конечно не останавливались перед кровью, если только кровь могла им помочь… О, как я понимаю «пророка», с саблей, на коне: велит Аллах, и повинуйся, «дрожащая тварь»! Прав, прав «пророк», когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — не желай, потому — не твое это дело!»
Это Раскольников говорит, — Раскольников, с душою столь же нежною и отзывчивою, как душа Ницше. Сам Раскольников — мягкий, раздвоенный, колеблющийся — совершенно не в силах вынести той страшной ответственности, которую несут на своей душе «вожди» и «установители человечества». И с завистью смотрит он на этих цельных, сильных людей. Раньше, по крайней мере, он признавал за ними право преступать человеческие законы во имя «идеи», во имя «блага человечества». Но теперь и это он готов отбросить, он все им готов простить за их цельность, силу, за то, что они — не «вошь», не «тварь дрожащая», что они — прирожденные властелины.
«Нет, те люди не так сделаны, — с завистью думает он. — Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, а стало быть, все разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!»
Но ведь и бронза бывает различного качества. Вот, например, Гарибальди. Он пролил потоки крови, вел на смерть цвет итальянской молодежи, беспощадно расстреливал своих волонтеров за мародерство. Но в то же время он не выносил ненужного пролития крови и на острове своем Капрере строжайше запрещал охоту на диких коз.
А вот другой человек — тоже из бронзы вылитый: Цезарь Борджиа. Смелый и сильный красавец — негодяй, хитрый и жестокий, как хищный зверь. Ему нужно устранить брата от наследства. Он приглашает его к себе на ужин — а назавтра труп брата вытаскивают из Тибра. Ему мешает Альфонс Аррагонский, муж его сестры Лукреции. И вот, при входе в своей дворец, Альфонс ранен неизвестными убийцами. Сестра ухаживает за раненым, собственноручно готовит ему пищу, боясь отравы, а Цезарь нагло смеется: «Не удалось в полдень, удастся вечером!» Врывается во дворец и велит приведенному с собою палачу задушить выздоравливающего. Отъединенное себялюбие зверя. Ни капли стыда или великодушия. Подлость и предательство во всем и зверино-равнодушная, холодная жестокость.
Какая «бронза» хороша? Какая нужна жестокость? Заратустра говорит: «Что такое добро, и что такое зло, этого еще не знает никто — разве только творящий. А это — тот, кто творит цель для человека, кто дает земле ее смысл и ее будущее. Этот впервые творит условия, при которых что-нибудь становится добром или злом».
Ну, что ж! Тут спорить не о чем. Конечно, это так. Не существует абсолютных норм добра и зла. Все дело в том, к чему и как они применяются. Хорошо ли перевязать рану товарищу? Хорошо. Но ведь прав и полководец (кажется, Драгомиров), сказавший: «Солдат, который во время атаки остановится, чтобы перевязать раненого товарища, — тряпка и негодяй». На что уж был мягок и добр св. Франциск Ассизский. Рыбак поднес ему великолепную живую рыбу. Франциск поблагодарил — и выпустил рыбу обратно в воду. А и он, когда было нужно, умел быть беспощадно жестоким. Одного из своих учеников, в наказание за злословие, он заставил съесть кучу ослиного помета. И всю целиком заставил съесть, не сжалился.
Здесь спор возможен не по существу, а разве только о степени, о критерии. Но не это важно для Ницше.
«Когда человечество не стыдилось еще своей жестокости, — говорит он, — жизнь на земле была радостнее, чем теперь. Усталый пессимистический взгляд, недоверие к загадке жизни, ледяное «нет» отвращения к жизни — это вовсе не признаки самых злых веков человеческого рода; они выступают, скорее, на свет, когда приходит болезненная изнеженность и оморализованность, вследствие которых животное «человек» научается в конце концов стыдиться всех своих инстинктов. По дороге к «ангелу» человек выработал себе тот испорченный желудок и тот обложенный язык, вследствие которых ему не только противна радость и невинность зверя, но и сама жизнь стала невкусной».
О, не совсем так! Люты были старинные времена, люди стыдились тогда не того, чего стыдимся мы; вкусна была для них жизнь, и язык их был чист. Но всегда человек — с тех пор, как он стал человеком, — стоял выше отъединенной от мира «радости и невинности зверя». Он чувствовал свою общность с другими людьми, с народом, с человечеством. И он знал то, чего не знает зверь, — стыд.
Ахиллес глумится над трупом ненавистного ему Гектора. Снова и снова привязывает он истерзанный труп к колеснице и волочет по пыли и грязи вокруг могилы Патрокла. И с омерзением следит за ним Аполлон:
…из помыслов всякую правду изгнал он,
Всякую жалость из сердца. Как лев, о свирепствах лишь мыслит.
Лев, и душой дерзновенной, и дикою силой стремимый,
Только и рыщет, чтоб стадо найти и добычу похитить.
Так сей Пелид загубил милосердье и стыд потерял он.
Этот стыд — aidos, — прочно живет в душах гомеровских эллинов. Нищие, странники, бездомные беглецы называются у Гомера трогательным словом aidoioi, — вызывающие в людях стыд.
И замечательно: обожествляя все решительно вокруг себя, гомеровский эллин не обожествил этого стыда, а оставил его при себе, как свое изначальное, внутреннее, ему присущее свойство. Только много позже — впервые у Гесиода — этот стыд превращается в богиню Айдос или Айдо, «сидящую на троне вместе с Зевсом» (Софокл).
«Зачем так мягки, так покорны и уступчивы? — спрашивает Заратустра. — Зачем так мало рока во взоре вашем? Злое — лучшая сила человека. Человек должен стать лучше и злее». В «Ессе homo» Ницше разъясняет истинный смысл своего сверхчеловека, мало кем понятого. «Слово сверхчеловек для обозначения типа самой высокой удачности, в противоположность «современным» людям, «добрым» людям, — почти всюду было понято в полной невинности, как «идеалистический» тип высшей породы людей, как полусвятой, как полугений». И с искушающею улыбкою дьявола Ницше наклоняется к читателю и «шепчет ему на ухо»: