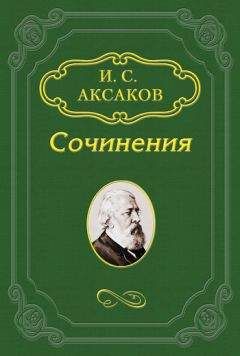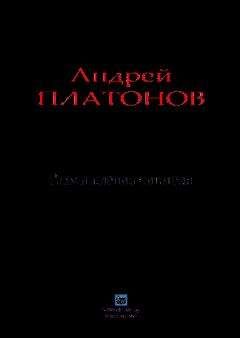Иван Кашкин - Для читателя-современника (Статьи и исследования)
Последний из романов Честертона, "Возвращение Дон Кихота" ("The Return of Don Quixote", 1926), беллетризирует ряд положений сборника "Что неладно на свете" ("What's Wrong with the World", 1910). Это возвращение к старой теме - последний зигзаг, последняя вспышка иллюзий и разбитое корыто надежд. В год великой стачки Честертон находит в себе смелость, рисуя промышленный конфликт, отдавать должное рабочему лидеру Брэнтри, "который в десять раз яснее отдает себе отчет в своих мнениях, чем большинство людей, которых вы называете интеллигентными. Он начитан так же, как они, и гораздо лучше, чем они, помнит то, что читал. У него есть критерий верного и ошибочного, который он может в любой момент применить. Его критерий может быть ложным, но он умеет его применять и поэтому сразу получает результаты". Основная слабость экстремиста Брэнтли, по Честертону, в том, что он будто бы плохо знает "низшие классы", тогда как постепеновцев-экономистов Честертон прямо обвиняет в том, что они, перед лицом классового врага, во всех смыслах разоружили народ, о котором правящие круги склонны забывать, когда он не бастует.
Честертон находит смелость рисовать вторую враждующую сторону промышленников - как выскочек, самозванцев, которые крадут чужие изобретения и обогащаются на них. Это именно те воры, которых "скорее найдешь в высшем свете" и которые остаются безнаказанными: "В наши дни сидят в тюрьме главным образом нищие, а те, кто ограбил их, ходят на свободе". Честертон находит смелость едко пародировать великосветских штрейкбрехеров 1926 года в виде маскарадного рыцарского ордена ревнителей порядка. Видя, что прочие орудия борьбы недействительны, что романтика империализма больше не действует и нельзя манить недовольных призраком далекой империи, правящие круги создают именно такой орден. Все это очень близко к действительности. Едва ли хмурый и чопорный по натуре англичанин искренне забавляется своими маскарадами только ради маскарада, своим шерстяным мешком спикера, и процессией алебардистов в Сити, и пышной англиканской церковью, и королем для представительства.
Карлейль когда-то хохотал до упаду, глядя на хрустальную коронационную карету, в которой ехал король Вильям IV. Так в наше время нельзя без улыбки смотреть на снимок шестидесятитрехлетнего Голсуорси, который во фраке и чулочках направляется на королевский прием. Но те, кого это касается, знают, что игра стоит свеч. Весь этот средневековый ритуал нужен для поддержания ореола монархии, и англиканской церкви, и палаты лордов, и Гилдхолла, а ведь это опорные столпы всей аристократической системы, бастионы, воздвигнутые против законных притязаний народа. Честертону ведь и этого кажется мало, ему нужна не англиканская, а католическая церковь, не ряженые, а воистину средневековые йомены и цеховые, как более надежный оплот против всего нового. Таким образом, маскарадная игра вплоть до чудачеств всякого рода Ку-Клукс-Кланов - это лишь покров нарастающей контрреволюции. Честертон срывает его, отказывается от ореола былой романтики. Тогда как горстка ноттингхилцев со славой погибла в борьбе против новых империалистов, ряженые джентльмены новоявленного ордена будут сметены с земли, как мусор с арены.
Честертон как будто признает вместе с Брэнтри: "Неужели вы думаете, что мы не прорвемся сквозь это, как через пестрый бумажный круг в цирке?" Опять, как много раз, Честертон занимает здесь двусмысленную позицию, он опять "двух станов не боец, а только гость случайный", и опять это демагогия. Выразителем его позитивной программы становится новый Дон Кихот, архивариус Хэрн, и его Санчо Панса, новый "выродок", интеллигент-демократ без определенной профессии - Мэррель. Субъективно Хэрн честнейший и благороднейший человек, но фактически он полусумасшедший. "Между Брэнтри и Хэрном была та разница, что первый всегда знал, чего он хочет, а второй витал в облаках". По определению Мэрреля, Хэрн - это безумное дитя, опасное уже тем, что ему позволили играть с оружием. Именно Хэрну, разыгрывающему в домашнем спектакле роль короля, приходит в голову сумасбродная игра в средневековый маскарад, которую и подхватывают злонамеренные люди.
Так последний роман Честертона перекликается с первым. Адам Вэйн - это фанатический последователь иронического фантазера, возбуждающий новых империалистов против себя и против нового мира. Майкл Хэрн - это наивный фантазер, полусумасшедший. Он манекен в руках циничных политиканов, к тому же снабжающий их оружием. В конце концов развенчанный король Хэрн, а теперь Дон Кихот и его Санчо Панса отправляются в кэбе "применять этот экипаж для защиты и утешения угнетенных", "делая из него подвижную трибуну, подвозя бродяг и катая в нем детей". Но это утешение, пригодное лишь для тех людей, которые сами впали в детство. Потеряв способность рассуждать трезво, они склонны приписывать это качество всему окружающему. "Сервантесу казалось, что воображение умирает и рассудок должен занять его место, - рассуждает Хэрн, - а я говорю, что в наши дни умирает рассудок и что его старость совсем не так почтенна, как былой упадок Возрождения". В конце концов Хэрн оказывается перед витражом с изображением Франциска Ассизского, накануне своего брака, который должен символизировать его отказ от ереси, подобной альбигойству, и его обращение в католичество.
Все это написано Честертоном поспешно и сбивчиво, сюжетные линии то и дело обрываются без всякого разрешения, временные планы смещаются, создавая полный сумбур; Честертон вдоволь дурачился вместе со своими героями, но все это была далеко не безвредная игра. Король Оберон забавляется, Хэрн разыгрывает роль короля, творец "Лиги длинных луков" натягивает игрушечный лук, но картонная корона, бутафорский меч, игрушечный лук, попадая в другие руки, становятся далеко не игрушечным, но страшным, смертоносным оружием.
Три пути было перед лирическим героем Честертона: первый попустительство "выродка", запертого в золоченую клетку; второй - блаженная арлекинада Инносента Смита, а потом и шута дистрибутизма, который он призывал защищать не длинным луком Робин Гуда, а "натягивая длинный лук", да притом игрушечный; и третий - трагикомическая судьба не менее блаженного "Дон Кихота в кэбе", рыцаря не только печального образа, но и малых дел.
Герой Честертона растратил себя по пустякам. Он по-прежнему упрямо дрался с мельницами, притом тоже ветряными, а не паровыми, тогда когда надо было драться с мельником, вернее, с потомками того средневекового мельника, "от которого ведет начало буржуазия наших дней". Не мудрено, что такое слепое упорство заводит его в тупик мистики, религиозного примирения, какой-то возрожденной мариолатрии, и новой панацеи в виде брака для не знающих жизни фанатиков.
Таким образом, в итоге социального цикла остается галерея преступных дельцов и политиков, образы продажных или перерождающихся лидеров "простого народа", забытый, незамечаемый, покуда молчащий народ и сбитый с толку, оглядывающийся назад, укрывшийся в католичество автор.
8
Много говорилось и писалось о мастерстве Честертона. Разумеется, он очень талантлив, он остроумный спорщик, изобретательный рассказчик, парадоксальный стилист, но если говорить о большом писательском мастерстве, то у Честертона оно мнимое. Он неизменно начинает за здравие, а кончает за упокой. Это сказывается и в крупном и в мелком.
Честертон любит все большое, яркое, шумливое, причудливое, но больших органических произведений у него не получается. Его книги ему быстро прискучивают и как-то иссякают в "потрясающих пустяках". Для него обычно блестящее начало, затем усталость и скомканный, путаный конец-кошмар.
Увлеченный спором, горячо доказывая свои тезисы, он жертвует реальной правдой в угоду своим предвзятым положениям, и то, что хоть сколько-нибудь оправдано в его романах - сновидениях и кошмарах, то особенно режет в вопиющих и вызывающих несообразностях реального фона его детектива, как жанра сугубо логического.
Сам на редкость яркая и характерная фигура, Честертон не сумел создать ни одного цельного и убедительного характера. Все его персонажи - это либо выразители его собственных мыслей и парадоксов, либо статисты, подающие реплику.
Изъяны его мастерства сказываются и в частностях. Если для Честертона революция есть возвращение вспять, то и вся его "революция" в области композиции утверждает лишь мнимую динамичность, бег на месте и возврат к исходному положению. "И на этом месте замыкается наше повествование о "Клубе удивительных промыслов", замыкается там, где мы начали его, словно правильный четкий круг". Ветер приносит и уносит в своих бурных порывах призрак неугомонного Инносента Смита, Хорн Фишер как сидел в начале книги с удочкой, так сидит и в конце, упуская одну крупную рыбину за другой.
Сознание своей беспомощности приводит воинствующего оптимиста Честертона к безнадежным, уводящим в сторону концовкам или репликам, которые так характерны для писателей-пессимистов XX века. "Поговоримте о чем-нибудь другом", - говорит Хорн Фишер. "А ведь холодно, - вторит ему в другой книге патер Браун. - Надо спросить вина или пива". - "Или бренди, - сказал Фламбо"; а через много лет, раздумывая о том, что на свете столько негодяев, что об этом и думать не хочется, патер Браун возвращается все к тому же: "А не распить ли нам бутылочку настоящего винца?" Это невольно наводит на мысль, что значительная доля шумливых бутад и бравад Честертона - это тоже инстинктивные жесты, с помощью которых он если не отмахивается, то отбрыкивается от сложностей и разочарований жизни.