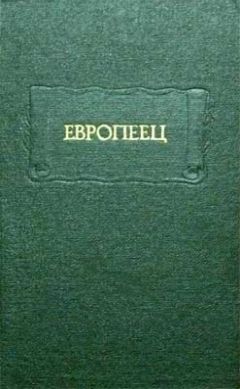Иван Киреевский - Европеец
Исконные преимущества России виделись Хомякову в том, что на ее «первоначальной истории не лежит пятно завоевания. Кровь и вражда не служили основаньем государству Русскому, и деды не завещали внукам преданий ненависти и мщения. Церковь, ограничив круг своего действия, никогда не утрачивала чистоты своей жизни внутренней и не проповедовала детям своим уроков неправосудия и насилия». «Если нам когда-то и случится воспринять на Западе его „случайные открытия”, то мы придадим им более глубокий смысл и человеческие начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории церкви и законов ее — светил путеводительных для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени».
Эта программа вызвала у Киреевского серьезные сомнения, и намечая направление своих рассуждений, он безошибочно указал на наиболее слабые места концепции своего оппонента: «Если старое было лучше теперешнего, из этого еще не следует, чтобы оно было лучше теперь, — говорит он. — Что годится в одно время, при одних обстоятельствах, может не годиться в другое, при других обстоятельствах».
Хомяков считает, что, угадав, указав «правильное» направление развития общества, можно направить его на путь истинный и тем решить стоящие перед ним проблемы. Киреевский отдает себе отчет в воздействии объективных факторов, независимых от наших желаний и устремлений, в наличии таких особенностей развития, которые необходимо учитывать, ибо устранить их все равно невозможно. «Сколько бы мы ни были врагами западного просвещения, западных обычаев и т. п., — напоминает он Хомякову, — но можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь, какою-нибудь силою истребится в России память всего того, что она получила от Европы в продолжение двухсот лет». И возвращение старого русского быта и введение западного равно невозможны, возникнет нечто третье, результат взаимодействия обоих этих начал. «Чего от взаимного их действия должны мы надеяться или чего бояться?» — спрашивает он. И когда Киреевский обращается к попыткам дать ответ на этот вопрос, становится ясно, что его расхождение с Хомяковым не так глубоко и непримиримо, как это поначалу могло показаться. Хотя Киреевский готов признать, что «любит Запад», «связан с ним многими неразрывными сочувствиями» и ценит сложившиеся там «удобства жизни общественной и частной», определяющим его позицию является другое: «… в сердце человека есть такие движения, есть такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее всех привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни и выгод внешней разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить своею настоящею жизнию». И это главное, как недвусмысленно сформулирует это Киреевский в заключительных строках своего «Ответа», есть вера, что «когда-нибудь Россия возвратится к тому живительному духу, которым дышит ее церковь». Главный предмет размышлений Киреевского по существу тот же, что и в «Девятнадцатом веке»: «Изнутри ли собственной жизни должны мы заимствовать просвещение свое или получать его из Европы? И какое начало должны мы развивать внутри собственной жизни? И что должны мы заимствовать от просветившихся прежде нас?» (Е. № 3. С. 372). Но как различны ответы, к которым клонилась его мысль в 1832 и 1839 гг.! Издатель «Европейца» рассуждал об «отношении русского просвещения к просвещению остальной Европы» (Е. № 3. С. 373). Это слово «остальной» весьма многозначительно. Россия мыслится тогда Киреевским как несомненная часть Европы, в которой ей предстоит, усовершенствовав уровень своего просвещения, занять надлежащее место. Эту подоснову суждений Киреевского мгновенно уловил Погодин. Уловил и вознегодовал. «Киреевский мерит Россию на какой-то Европейский аршин, я говорю в смысле историческом, а это — ошибка, — писал он Шевыреву. — Европа себе, мы себе, говорит у меня Долгоруков в трагедии. Россия есть особливый мир, у нее другая земля, кровь, религия, основание, словом — другая история… Черт возьми! Россия особливый мир».
Киреевский в «Девятнадцатом веке», хотя и упомянул мельком, что «в России христианская религия была еще чище и святее», но тут же отметил, что «влияние нашей церкви во времена необразованные не было ни так решительно, ни так всемогуще, как влияние церкви римской» (Е. № 3. С. 381). «Только с того времени, как история наша позволила нам сближаться с Европою… начало у нас распространяться и просвещение в истинном смысле сего слова, то есть не отдельное развитие нашей особенности, но участие в общей жизни просвещенного мира…» (Е. № 3. С. 387). В 1832 г. для Киреевского не подлежит сомнению, что Россия не может «достигнуть образованности, не заимствуя ее извне» (Е. № 3. С. 388). Этот тезис формулируется в «Девятнадцатом веке» со всей определенностью и бескомпромиссностью. Своим оппонентам, которые «говорят нам о просвещении национальном, самобытном, не велят заимствовать, бранят нововведение и хотят возвратить нас к коренному и старинно-русскому», он заявляет: «…у нас искать национального — значит искать необразованного; развивать его за счет европейских нововведений — значит изгонять просвещение, ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы?» (Е. № 3. С. 391, 392).
Когда писался ответ Хомякову, Киреевский представлял себе вещи совсем в ином свете. В европейском просвещении он видит гибельный примат рациональности, которая «своею болезненною неудовлетворительностию явно обнаруживается началом односторонним, обманчивым, обольстительным и предательским», порождающим «состояние нравственной апатии», «недостаток убеждений» и «всеобщий эгоизм». Россия же, хотя и «не блестела ни художествами, ни учеными изобретениями, не имея времени развиться в этом отношении самобытно и не принимая чужого развития, основанного на ложном взгляде и потому враждебного ее христианскому духу», но зато «в ней хранилось первое условие развития правильного, требующего только времени и благоприятных обстоятельств; в ней собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам». Не Россия достигнет образованности, заимствуя ее на Западе, а наоборот: Запад, если бы он «изучил нашу церковь поглубже», пришел бы к убеждению, «что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы».
Герцен несколько раз, обращаясь к характеристике Киреевского, подчеркивал то промежуточное место, которое занял издатель «Европейца» между славянофилами и западниками, его особую позицию в среде славянофилов, определяемую тем, что он не отказался от многих своих дум и чувств конца 1820-х — начала 1830-х годов. «Поклонник свободы и великого времени французской революции, он не мог разделять пренебрежение ко всему европейскому новых старообрядцев». Но здесь же Герцен отмечал то главное, что отделяло его от Киреевского: «Между ним и нами и была церковная стена». Первые кирпичи в эту стену были заложены уже в 1839 г.
В 1845 г. Киреевский непродолжительное время был редактором «Москвитянина». Обстоятельства, обусловившие переход журнала в руки славянофилов, общеизвестны. Славянофилам нужен был свой печатный орган. Хотя «Москвитянин» по своей ориентации был им ближе других существовавших в то время ежемесячников, их расхождения с Шевыревым и Погодиным были настолько существенны, что большинство из них уклонялись от участия в его издании. Падение популярности «Москвитянина» привело Погодина к решению, сохранив издание за собой, передать руководство журналом славянофилам.
Новая редакция «Москвитянина» должна была, по первоначальным замыслам, сплотить всех противников Белинского — не только славянофилов, бывших непосредственным объектом его критики, но и московских западников, не одобрявших «крайности» ведущего критика «Отечественных записок». Киреевский казался (а может быть, и в самом деле был) наиболее подходящей фигурой для того, чтобы сплотить этот широкий и разъедаемый внутренними разногласиями фронт. Явно выступая против сектантства «ортодоксальных» славянофилов, Киреевский писал: «Я желал бы своего „Москвитянина” сделать журналом хорошим, чистым, благородным, сочувствующим всему, что у нас есть благородного, чистого и хорошего». Показательно, что в этом журнале согласился сотрудничать Грановский.
Как вспоминал позднее П. В. Анненков, дом А. П. Елагиной, остававшийся одним из излюбленных мест, где собирались московские литераторы, «по тону сдержанности, гуманности и благосклонного внимания, в нем царствовавшему, представлял нечто вроде замиренной почвы, где противоположные мнения могли свободно высказываться, не опасаясь засад, выходок и оскорблений со стороны препирающихся». Мемуарист свидетельствует, что атмосфера елагинского салона имела «весьма заметное влияние на Грановского, Герцена и многих других западников, усердно посещавших его» и что «обратное действие западников на московских славянофилов, составлявших большинство в обществе елагинского дома, тоже не подлежит сомнению».