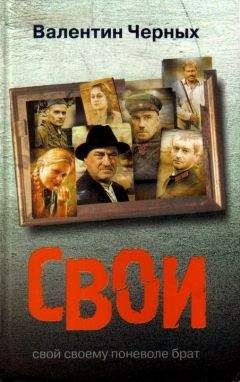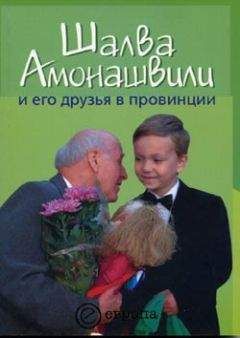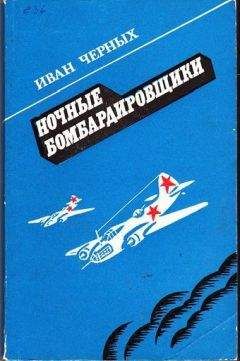Борис Черных - Старые колодцы
– А я принципиально не согласен. Новая общность советских людей. Интернациональное братство. Любовь передового человечества к стране победившего социализма.
– Вы называете то, что есть, победившим социализмом?
– Бесповоротно, дорогой Борис Иванович. Потому-то, кстати, мы сочувствуем вам. Предубежденность былая ушла, мы поняли – вы советский человек, но со своеобразным взглядом на мир. Да, а Ежи Ставинского вы читали, конечно?
– Читал, и вы знаете об этом. Но к польской «Солидарности» Ставинский не имеет отношения.
– Мы хлеб не зря едим. Нам о Ставинском известно другое. Ну, держитесь, Борис Иванович. Вы симпатичны мне. В вас есть корневое, характер у вас русачий, морозоустойчивый.
– Я не русак, я гуран, Степан Сергеевич.
– Гураны – забайкальские казаки? Дак то ж чистейшие русаки!
– Мы помешали кровь с местными народами, потому и стали морозоустойчивыми.
Встав из-за стола, мы пошли к выходу из кабинета. И уже на флажке Лапин добро усмехнулся, мужицкое начало высветилось и проступило наружу:
– Борис Иванович, а почему вы считаете, что евреи из одной с вами камеры – осведомители КГБ, так сказать? Неужели вы антисемит?
– Зная, что я не антисемит, вы пытаетесь через ваших евреев кое-что разведать у меня. Но работать они не умеют, милостивый государь.
– Да вы заблуждаетесь, уважаемый Б. И. Оперативная служба тюрьмы ведет свою работу, в том числе среди евреев. Мы не касаемся их епархии. Своих забот полон рот. Ну, не гневите душу, Б. И., я рад был беседовать с вами, – Лапин протягивает толстую руку простолюдина.
В приемной чистолицый моложавый человек цепко всматривается в меня. Глаза его совершенно безжизненны. Я притормаживаю и всматриваюсь в маску. Запомнить бы. Не знаю, зачем, но запомнить бы.
Много лет спустя на собрании ученых в Академгородке я внезапно признаю в выдвиженце (ученые рьяно выдвигали чистолицего кандидатом в депутаты России) того человека, что сторожил мой выход в приемной генерала Лапина, но воспрепятствовать ему не смогу. Он станет депутатом России.
Письмо четвертое
Светлые силы
Среди гэбистов оказался один человек – с ним установились у меня нормальные отношения, нацеленные будто во времена другие, мы оба делали прикидку: я, если доживу, пригодиться Петру Мазанникову в качестве дядьки, Савельича; Петру Николаевичу – начать с чистого листа историю службы, первейшей и единственной задачей ее да будет благо русского государства, благо, понятое в гармонической увязке со свободой частного лица.
Но темные силы попытались отвадить Мазанникова приятельствовать со мной и настропалили парня быть дурным. Тогда я взял в руки перо.
Том 2, лист 5 уголовного дела № 2308. Приложение к протоколу от 20 июля 1982 года: «Настоящим принужден заявить отвод Мазанникову П. Н. Мотивы отвода суть следующие. Нарушение презумпции невиновности, заведомо тенденциозный и неэтичный подход к подследственному. При всем при том уверен, что в дальнейшей работе своей, набравшись ума и культуры, Петр Николаевич Мазанников станет добросовестным и лояльным работником. Борис Черных».
Мотивы отвода – неискренние. Мазанников обнаружил в себе качества не хуже, нежели те, коими обладали тот же Анатолий Степаненко или Юрий Шаманов (перечеркнуть лучшее в них не могу). Уместно припоминаю Михаила Асеева, именно Асеева гэбисты пятидесятых годов и втянули в провокацию против юного Леонида Бородина. И когда с Бородиным посчитались, Миша Асеев, милый парень, ушел с историко-филологического факультета на юридический. У нас он сразу вписался и стал своим, его определили комендантом общежития, мы неплохо зажили под зонтиком, и только к концу учебы открылось, с кем мы водили дружбу, кто постоянно выручал нас то пятеркой, то буханкой хлеба. А двойничество в натуре Асеева дало корень и проросло. Но все равно природное, сибирское, прорывалось и довлело в натуре, подпорченной вечным двурушничеством. Однажды он сказал мне, подходя на улице: «Все так и норовят презирать кэгэбэшников, но мало кто знает, что среди нас есть люди не хуже, а лучше вашего брата. Но мы никогда не обнимемся». На что я отпел ему резко, а потом, получив сообщение о гибели Асеева, горько сожалел о резкости, частью оправданной. Но кто выдумал надзирать над согражданами? Кто придумал поссорить славян недоверием к части их? Кто ввел в обиход стукачество?
Отвод Мазанникову я писал с целью высокой: для потаенного исследования моего давно хотелось мне оказаться лицом к лицу с господином Дубянским. В течение долгих лет Дубянский занимался досмотром за моими друзьями, собирал «компрометирующие факты», не брезгуя бытовыми подробностями, многих успел запугать, вызывал на так называемые профилактические беседы, требовал письменных объяснений.
В архиве КГБ сохранились отвратительные бумаги – если в минувшем году, чувствуя угарный запашок, гуртовые не успели сжечь их. И меня, разумеется, возмутило, когда матерый Дубянский решил загородиться необстрелянным Петей Мазанниковым. Ранее я отвел молодого следователя прокуратуры Тихонова, ибо и там усмотрел похожее желание стариков отсидеться за спинами неискушенных ребят. И вот написал отходную юному витязю, а жалко расставаться было с парнем.
Петр Мазанников приходил на допросы чистеньким, в белой рубашке. Золотое колечко с безымянного пальца било в глаза светлым лучом. Костюм модный, наверное, вся родня собирала по рублю, чтобы одеть парня, ведь куда идет служить, в какие высокие сферы! Сам Мазанников постоянно думает о важности происходящего и светится, но скоро начинает тускнеть на глазах, я так думаю, разум и сердце непогашенное еще работают и плодят вопросы, а ответы на них не сыщешь в одночасье: Иногда через коридор я слышу, как Овод пытается отвести тяжкие раздумья Мазанникова и цинически смеется, зазывая Петра Николаевича в смеховую орбиту.
Написать бы о смеховой традиции у опричников. Итожа четвертьвековую школу постижения гэбистских ужимок и гадостей, со временем, коли выкрою время, сяду к столу, чтобы позабавить читателя песенкой удивительной. Всякий раз, припоминая, как смеялся Степаненко или как смеялся мышонок Шаманов (в обкоме комсомола невольно наблюдал за ними), или как смеялся полковник Королев в Магадане, или подполковник Вовк в Благовещенске, или генерал Разживин в Ярославле... – чую, золотые россыпи, да где сыскать издателя, который бы немедленно пустил удивительную книгу к читателю?
В минуту роковую говорю Мазанникову:
– Петр Николаевич, доживете до хороших дней, когда Россия вздохнет свободно. Не отяготить бы совесть. Понимаю, трудно здесь, но от крайнего падения, берегите себя, – на эти слова Овод, присутствующий при моем монологе, презрительно бросает: «Мы не красные девицы, чтобы беречь себя», – и хлопает Мазанникова по плечу. Тот сконфуженно улыбается. Но сколько-то пробежит недель и месяцев, перед судом я получу возможность смотреть «Дело», сшитое гэбистами, и в некоторых протоколах допросов, веденных Мазанниковым, обнаружу совершенно неуместные слова в мой адрес: один отмечает педагогические таланты подследственного, другой признается в том, что меня любили воспитанники, третий говорит – выеденного яйца не стоит вся затея улицы Литвинова.
С глазу на глаз Петр Мазанников выпаливает как-то, словно на всякий пожарный случай:
– А я ведь живу в одном подъезде с Дмитрием Гавриловичем Сергеевым, – молча соображаю я, что значит признание молодого следователя, но не обижаю Мазанникова подозрениями: квартиру-то дали ему в одном доме с достойнейшим сыном Сибири для неумолчного догляда за Дмитрием Сергеевым. Вместо подозрения, готового сорваться с уст, я спрашиваю:
– Веньку Малышева помните? Из Нилинской «Жестокости»?
– Помню.
– Слава Богу, – говорю. – Венька и меня заставил многое понять, когда я был не старее вас.
(Павел Нилин, роман «Жестокость». Вениамин Малышев, сотрудник уголовного розыска, убивает себя, когда открывает, что обманутым и поверженным оказывается человеческое достоинство; в недрах репрессивных органов в 20-х годах уже были заложены тлетворные зерна, им оставалось с годами прорасти и дать всходы. Мужик Баукин, преданный оперативникам в «Жестокости», – пророческий персонаж русской литературы).
– Да то ж когда было, Борис Иванович.
– Сегодня было и есть. Вчера было. Но что будет завтра?..
Более пяти минут нам не дают пробыть вместе. Догадываются волкодавы: коли я умею подчинить влиянию уголовников, то не воздействовал бы и на белоснежного Мазанникова.
У меня же дидактическая установка, хотя и скрытая, но никогда не умирающая: всегда, со школьных лет, я не оставлял усилий воздействовать на человека в положительном смысле. Усилия мои приносили результат, иногда не скорый. Но тем не менее приносили. Зря не послушался я советов Лили, сестренки (она учитель), и не пошел учиться в педагогический. Возможно, судьба моя сложилась бы благополучнее. И здесь, у края пропасти, я начал безнадежную борьбу, и, кажется, бессмысленную, за достоинство... – вот вы, читатель, сейчас удивитесь, но Ты, Марина, поймешь меня... – за достоинство личности опричника, вне спекулятивных соображений...