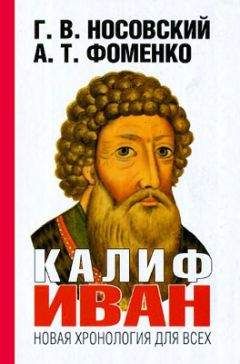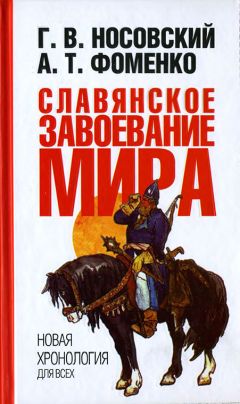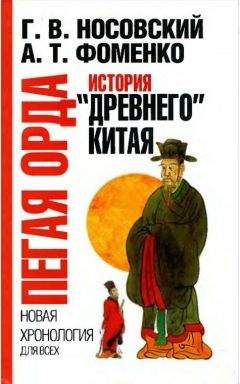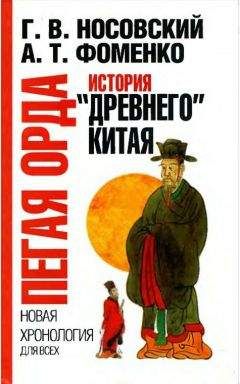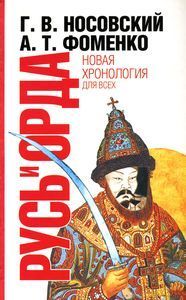Андрей Савельев - Как убивали СССР. Кто стал миллиардером.
И все-таки нашлись офицеры, которые имели понятие о чести. Из-под Ногинска, из военного городка капитан-лейтенант и 17 матросов с оружием в руках пытались прорваться к Белому Дому в ночь с 3 на 4 октября. Их перехватили, офицер застрелился. Он знал, что такое честь. Командир подольской учебной части ПВО с 17-ю добровольцами дошел- таки до Белого Дома и участвовал в его обороне. Грачевым эта часть была расформирована («КП», 07.10.93). Бесчестному министру нужно было давить всяческие понятия о чести. В противном случае он давно сидел бы в тюрьме.
Наверняка были и другие эпизоды. Но не нашлось ни одного командира дивизии, который готов был рискнуть своей жизнью, но раздавить авантюристов. Все эти обещания поддержки армии со стороны Руцкого, Стерлигова, Союза офицеров и пр. были просто блефом. В армии не было главного — духа. Дух был выбит еще политотделами Советской Армии. Вместо духа в армии годами царило воровство, уголовщина и показуха.
Московская милиция показала в полной мере тот уровень нравственности, который имеют на сегодняшний день люди в погонах. Там тоже были свои генералы. За два дня до кровавых событий в Москве министру внутренних дел Ерину было присвоено очередное звание генерала армии, а после 3–4 октября он в числе первых получил звезду Героя России. На одном из брифингов господина Ерина спросили, не стыдно ли ему носить звезду Героя. Ерин очень «находчиво» ответил: «Надеюсь, что я не доживу до времени, когда будут интересоваться, какое у меня нижнее белье» («Правда», 20.04.94). Мысль министра, изложенная коряво, все-таки ясна. Она состоит в том, что совесть — понятие неофициальное, и нет оснований обсуждать ее в сфере государственной политики. Что ж, это единственно возможная для сохранения невозмутимости позиция убийцы, которому смотрят прямо в глаза.
Вояки из нижних чинов МВД тоже получили свои тридцать сребреников. Орден «За личное мужество» получил генерал-лейтенант Голубец, расстрелявший в Останкино безоружных людей. Его подельщик подполковник Лысюк стал «Героем России». Лужков дал оценку и жизни человеческой. За убитого работника МВД родственникам заплатили по 1 млн. рублей, раненым милиционерам выдали по 400 тысяч («ЭиЖ-М», № 2, 1993).
Государственное насилие в октябре было направлено отнюдь не против уголовного насилия, которое разрасталось в стране, вовсе не против политического террора, который как раз после ельцинского путча стал повсеместным явлением. Насилие было направлено против законно избранного органа власти, против безоружных людей, пришедших к своему парламенту.
Доказательством того, что вопрос о силе и насилии «демократы» всегда разрешают, только исходя из своих шкурных интересов, показала общественная ситуация в России во время ликвидации бандитского режима Дудаева в Чечне. Все силы и лица, поддержавшие вооруженное насилие в центре Москвы в октябре 1993 года, теперь, почувствовав свою полную ненужность властям и скорые перемены на политическом Олимпе, восстали против применения армии в Чечне. Это не мешало мясистым лицам «демократов» мелькать на новогодних балах, когда в столице Чечни шли кровопролитные бои.
В ответ на принятое в феврале 1994 года решение Государственной Думы об амнистии участников сопротивления антиконституционному перевороту (именуемых официозом «участниками мятежа») Ельцин высказался: «Считал и считаю, что здесь были допущены нарушения Конституции, закона и норм нравственности». Если отвлечься от ситуации, то простое вплетение в политическое заявление сносок на нравственность может вызвать уважение. Но на неофициальном уровне из недр Администрации Президента шли инструкции Генеральному Прокурору Казаннику о том, что следствие по октябрьским событиям следует закончить в течение нескольких дней и вынести смертные приговоры сидящим в тюрьме защитникам Конституции («Общая газета», № 15, апрель 1994 г.).
В своих воспоминаниях Ельцин лицемерно предлагал помянуть погибших «без дележки на наших и не наших». Красивые слова, в которые многим захотелось уверовать, вплоть до желания подписать весной 1994 года Договор об общественном согласии, разошлись с жизнью радикальным образом. Денежные пособия и почести получили лишь те, кто штурмовал парламент, и жертвы собственного любопытства. Вся лояльность Ельцина к погибшим защитникам Конституции состояла лишь в том, что он не сразу ликвидировал мемориальное место их гибели.
Если же все-таки не забывать предысторию всех этих разговоров о нравственности, то они в устах людей, умывших Россию кровью и растоптавших своих оппонентов (даже если они были не очень-то привлекательны), выглядят омерзительно. Отсюда и резкое размежевание общества. Те, кто видит всероссийский погром и не осознает мерзости своей службы «демократии», те, кто забывает предысторию красивых слов своих любимцев, становятся послушными орудиями номенклатуры и соучастниками ее преступлений. Те же, кто помнит всю подоплеку и не забывает ни расстрелов, ни лжи, не могут с этой властью иметь ничего общего. Здесь возникает не идеологический, а нравственный разлом.
После кровавой каши, заваренной Ельциным в октябре 1993 года, творческая интеллигенция не только не ужаснулась своей роли, но продолжила разыгрывать ее с упоением. В «Известиях» на следующий день после разгрома парламента появилось письмо писателей, поторопившихся примкнуть к компании погромщиков. Они требовали решительности. Они требовали повсеместной ликвидации представительных органов. Они выражали свою радость за «окрепшую демократию».'Нет, они не призывали к убийствам. Они просто хотели крови. Так к ним приходило творческое вдохновение…
Процитируем несколько строк из письма исполкома Содружества союзов писателей («писательские союзы демократической ориентации»), подписанное Г. Баклановым, Б. Окуджавой, Ю. Нагибиным, А. Приставкиным, А. Нуйки- ным, Ю. Черниченко и др.: «Мы глубоко признательны руководству Министерства финансов РФ, оказавшего нам финансовую поддержку, которая в настоящее время является единственной основой для нашего материального существования и практической деятельности, в том числе — издания предвыборной агитационной литературы, командировок виднейших писателей в основные регионы России, творческих вечеров в столице и на периферии. И, по чести говоря, уже понесенные нами расходы, равно как и те, что еще предстоят, дают основание для постановки перед правительством вопроса о более радикальном решении, чем пролонгация вышеупомянутой ссуды на оговоренных ранее условиях. С уважением и надеждой…»
На письме резолюция Гайдара от 21 декабря 1993 года: «Министру финансов (Б. Федорову). Прошу рассмотреть и по возможности помочь» («НГ», 21.01.94).
Что может быть откровеннее! «Творческая интеллигенция» нагло набивается на государственное служение, не стесняясь кланяться в пояс и напоминать о своих заслугах, которые надо непременно оценить в деньгах, компенсируя демократические затраты поиздержавшихся писателей.
Как-то в одной из телепередач летом 1994 года замечательного актера О. Басилашвили спрсили, не хотел бы он сыграть Ельцина в кино. Тот задумался и с серьезным видом согласился: «Да». И прибавил к тому свое отношение: мол, Ельцин, Гайдар и их окружение — это пример нравственного отношения к политике («хая, быть может, были отдельные ошибки»). Вот такой припер куриной слепоты и нравственной тупости.
Мы хорошо помним апофеоз мятежа- кровавый ельцинский пир…
«Я помню все, что видел и слышал в те два дня. Или почти все.
Помню как утром 3 октября, ничего такого не подозревая, шел собирать материал о демонстрации: обычная работа. И как толпа, проламывая один: а другим милицейские кордоны, дошла до Белого дома. И дебильное ликованье: "Мужики, победа!" И крик Руцкого: "Па Останкино!"».
Помню первый залп из окон телецентра, и стук пуль о плиты площади, и собственное удивление: "Неужели не холостые?…. И как девчонка лет шестнадцати, которой мы пытались перетянуть продырявленное бедро вчетверо сложенным бинтом, просила не снимать с нее штаны… Понять, что условности кончились и началась война, на которой надо выжить, — на это нужно время.
Помню, как тащили мужчину, раненного, как показалось, в бедро, и как спустя несколько дней случайно узнал: прострелено было не бедро, а мошонка.
Помню пламя в окнах первого этажа техцентра и мысль: неужели такое возможно от каких-то жалких бутылок с "коктейлем"?
Помню охоту на репортеров: чеювек с видеокамерой и никелированной стремянкой, сияющей в свете фонарей, и фонтанчики пыли от пуль отмечающего путь.
Помню крик Черниченко с балкона Моссовета: "С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой!" И рев толпы.
Помню перестрелку между крышами на углу Садового кольца и Нового Арбата и толпы непуганых идиотов, глазеющих на небывалый спектакль — войну с доставкой на дом. Танки лупят по Белому дому, и зеваки встречают каждый выстрел аплодисментами и радостными воплями: "Ура!", "Бей по гадам без промаха!", "Да здравствует демократия!".