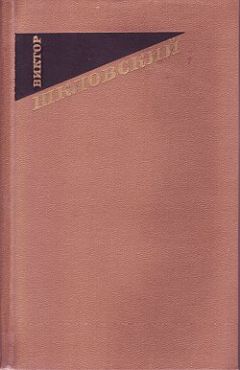Викентий Вересаев - Живая жизнь
Тем не менее эта осенняя красота эллинской трагедии слишком громко говорит о студеных ночах души, об увядающих силах жизни, о замирающем жизненном инстинкте. Является досадливое желание стряхнуть с себя сгущенно-мрачный гнет, которым трагедия пытается придавить человека; душа возмущается против этого безмерного, намеренно раздуваемого в себе ужаса перед жизнью, и мы бессознательно сторонимся трагедии. Вот почему так неизменно бесплодны непрекращающиеся попытки театра воскресить эллинскую трагедию. Слава богу, даже и мы для нее недостаточно декаденты. Вечно свежими и молодыми, полными неумирающей жизни останутся для человечества поэмы Гомера. Но только гений Мунэ-Сюлли или Сандро Моисси сможет на миг вдохнуть жизнь в прекрасный труп эллинской трагедии, невоскресимый к прочной жизни.
VIII
Между двумя богами
«Рождение трагедии» написано Ницше в молодости, когда он находился под сильным влиянием Шопенгауэра. Сам он впоследствии указывал, что мысли свои, ничего не имевшие общего с Шопенгауэром, он выразил в шопенгауэровских формулах и этим испортил свою книгу. В дальнейшей своей эволюции Ницше решительно отрекся от Шопенгауэра, признал его своим антиподом, больше того — фальшивомонетчиком. Отрекся он и еще от очень многого, о чем говорил в своей книге.
Но Дионису Ницше остался верен до конца жизни. Главною своею заслугою он считал выдвинутую им дионисовскую проблему, и на предельной грани своей деятельности, под черными тучами уже надвигавшегося безумия, он называл себя «последним учеником философа Диониса».
Мало того. В своем поклонении Дионису Ницше пошел как будто даже еще дальше сравнительно с «Рождением трагедии». В книге этой, как мы видели, только взаимодействие Диониса и Аполлона делает возможною жизнь; только Аполлон спасительною своею иллюзией охраняет душу от безмерного ужаса, который охватывает ее при созерцании стихии дионисовой. Но об Аполлоне Ницше впоследствии как будто совсем забывает. Он до странности редко и до странности поверхностно упоминает о нем, все время говорит от имени одного лишь Диониса и его же именем окрещивает любимейшего своего героя, Заратустру. «Дионисическое чудовище», — говорит он про Заратустру.
Вспомним, однако, в чем видел Ницше существо Аполлона. «Страдания индивидуума Аполлон побеждает светозарным прославлением вечности явления, — читаем мы в «Рождении трагедии». — В имени Аполлона мы объединяем все те бесчисленные иллюзии прекрасной кажимости, которые в каждое данное мгновение делают существование желанным». Аполлон — бог principii individuationis, бог восприятия мира в формах времени и пространства. Под его чарами человек «возводит голое явление, создание Маии, на степень единственной и высшей реальности, ставя его на место сокровеннейшей и истинной сущности вещей». Между тем лишь прозрением именно этой «истинной сущности вещей» кладется, по Ницше, начало культуре дионисовской.
Но не было человека, который бы так решительно, с такою страстною насмешкою осмеял эту «сокровеннейшую и истинную сущность вещей», как позднее именно сам Ницше.
«Понятия «по ту сторону», «истинный мир» выдуманы, чтобы обесценить единственный (курсив Ницше) мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности» (Ессе homo). «Кажущийся мир есть единственный: истинный мир только прилган к нему» (Сумерки идолов). В делении мира на истинный и кажущийся Ницше усматривает глубокую трусость перед жизнью, внушение декаданса, симптом нисходящей жизни.
И само «дионисическое чудовище» Заратустра говорит:
«Как? Времени больше не существует, и все преходящее — только ложь? Злым называю я это и человековраждебным, — все эти учения об Едином и Непреходящем. Все непреходящее, оно есть только подобие. И поэты лгут слишком много…[4] Итак, о творящие, будьте приверженцами и оправдателями всего преходящего».
Казалось бы, при таком новом в сравнении с прежним, при таком недионисическом отношении к миру реальному Ницше должен, был внимательнее вглядеться в Аполлона и спросить себя: раз аполлоновская «светлая кажимость» есть единственная истинная реальность, то что же такое бог этой реальности? Не слишком ли было поверхностно прежнее понимание сущности этого бога?
Но Ницше подобною задачею не заинтересовался. Он просто отвернулся от Аполлона, забыл о нем. Что ж, забудем и мы! Забудем — и пойдем вслед за Ницше, станем наблюдать те исправления и добавления, которые он постепенно вносит в своего Диониса.
То же «дионисическое чудовище» Заратустра, — странным образом носящее имя основателя одной из самых недионисических религий, — то же дионисическое чудовище говорит:
«Некогда в заблуждении своем стремился и Заратустра по ту сторону человека, подобно всем приверженцам потустороннего мира. Страдающего и растерзанного бога творением представлялся мне тогда мир. Сном представлялся мне тогда мир и художественным созданием бога, — цветным дымом перед глазами божественно-недовольного… Прочь от себя хотел посмотреть творец — и тогда создал он мир. Пьяная радость для страдающего — смотреть прочь от своего страдания и терять себя. Пьяною радостью и самопотерею мыслился для меня когда-то мир. Страданием было бы теперь для меня и мукою для выздоровевшего — верить в такие призраки: страданием это было бы для меня и унижением».
Но ведь Дионис — именно бог страдающий и растерзанный. Именно в «Рождении трагедии» мир представлялся Ницше сном и цветным дымом. «Истинно-сущее и Первоединое, — писал он, — как вечно-страждущее и исполненное противоречий, нуждается для своего постоянного освобождения в восторженных видениях, в радостной иллюзии». Слушая подобные речи «дионисического» Заратустры, мы готовы спросить так же, как древний эллин по поводу трагедии:
— При чем же тут Дионис?
Мир был для Ницше творением божества страдающего и растерзанного. Также и человек в этом мире представлялся автору «Рождения трагедии» «диссонансом в человеческом образе». Древний эллин оказался способным познать Диониса именно потому, что был таким «диссонансом»: он обладал «исключительно-болезненною склонностью к страданию» и «ужасающею глубиною миропонимания», открывавшею ему грозную мудрость лесного бога Силена. Но Заратустра только с ненавистью и отвращением относится к человеку, поскольку он является «диссонансом»: наличный человек вызывает в нем такой же «смех и болезненный стыд», какой в человеке вызывает обезьяна. «Что велико в человеке, это то, что он — мост, а не цель; что можно любить в человеке, это то, что он — переход и гибель… Человек есть нечто, что должно преодолеть».
По-нашему, это несомненно так. Но мы спросим опять:
— При чем же тут Дионис?
О дионисическом исступлении вот как говорил Ницше в «Рождении трагедии»: «Еще в немецком средневековье, охваченные тою же дионисическою силою, носились все возраставшие толпы, с пением и плясками, с места на место; в этих плясунах св. Иоанна и св. Вита мы узнаем вакхические хоры греков… Есть люди, которые от недостаточной опытности, или вследствие своей тупости, с насмешкою или с сожалением отворачиваются, в сознанье своего собственного здоровья, от подобных явлений, считая их «народными болезнями»: бедные, они и не подозревают, какая трупья бледность лежит на этом пресловутом здоровье, как призрачно оно выглядит, когда мимо него вихрем проносится пламенная жизнь дионисических безумцев!»
Но не эту ли именно пламенную жизнь с ее касанием к мирам иным имеет в виду Заратустра, когда говорит: «Все потусторонние миры создало страдание и бессилие, и то короткое безумие счастья, которое испытывает только самый страдающий». Мы знаем, что «пламенная жизнь дионисического безумия» охватывала народы неизменно в самые ужасные, истощающие дух исторические эпохи. (Пляски св. Иоанна и св. Вита, например, — на почве страшной «черной смерти», опустошавшей Европу в XIV веке.) «Бешенство разума было богоподобием! — возмущается Заратустра. — Братья мои, слушайтесь лучше голоса здорового тела: это более честный и более чистый голос. И он говорит о смысле земли». И в «Антихристианине» Ницше восклицает: «Высшие состояния, которые провозглашены идеалом человечества, как ценность из ценностей, суть эпилеитоидные формы!» Говорит он это как раз о тех состояниях, крайним выражением которых были именно пляски св. Иоанна и св. Вита.
Наконец, и сама трагедия — эта форма наивысшего будто бы утверждения жизни — начинает по временам вызывать в Ницше «старые сомнения о влиянии искусства». Он спрашивает: «Действительно ли трагедия, как думал Аристотель, разряжает сострадание и страх, так что слушатель возвращается домой более холодным и спокойным? Верно ли, что истории с привидениями делают человека менее боязливым и суеверным?.. Возможно, что в каждом отдельном случае трагедия смягчает и разряжает страх и сострадание; тем не менее, в общем они могли бы увеличиваться под действием трагедии, так что в целом трагедия делала бы людей более трусливыми и сантиментальными. Это соответствовало бы и мнению Платона, что трагические поэты, а также целые общины, которые особенно ими наслаждаются, вырождаются и все больше предаются неумеренности и разнузданности».