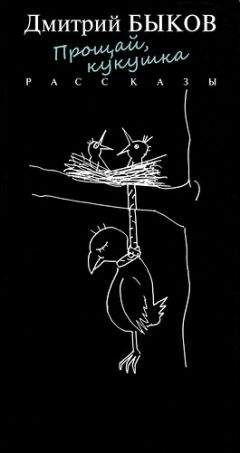Дмитрий Быков - Вместо жизни
Кто ему виноват, этому молодому? Один друг-кинокритик высокопарно кричал в телефон: «Старик, это фильм о ранней усталости мужчин НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!» Мужчины нашего поколения, возможно, действительно устали – от беспрерывного выживания, от социальных катаклизмов, от политической неопределенности, от клановости, царящей в искусстве, от снижения планки, столь заметного везде… И все-таки, смею думать, мужчины нашего поколения в массе своей ничего еще толком не сделали – хотя жить им выпало в условиях куда более комфортных, чем отцам и дедам. И никакого сочувствия к этой ранней усталости у меня нет – потому что и в этой ранней усталости они сами виноваты. Лишние люди бывают всегда, это не худшие люди, и добро бы Соловьев повел разговор о том, что нашим временем не востребованы порядочность и интеллект! Вопрос спорный, но по крайней мере есть что обсуждать. Так ведь в «Нежном возрасте» не об этом речь. Ни порядочности, ни интеллекта у Вани Громова близко нет. Конформист и растяпа в чистом виде. Что делать такому человеку в наше время, спросите вы? А что ему делать в ЛЮБОЕ время? И чего ради давать такому герою имя бунтаря и правдолюбца из «Палаты №6»? Положим, ощущение дурдома налицо, да ведь чеховский Громов был самым нормальным в этом дурдоме – тогда как соловьевский персонаж, хоть убейте, куда больше напоминает мне того тихопомешанного с кроткой улыбкой, который так гордился редким орденом…
То-то и обидно, что и соловьевский растяпа, и большинство блистательных авантюристов, и интеллектуалы, и манипуляторы, и даже новые русские – все к началу нового века пришли примерно к одному результату. Иллюзии лопнули у всех, все разочарованы, всем скучно и плакать хочется. Катастрофически не попав в героя, в эмоцию Соловьев попал. И на том спасибо.
И вот я думаю: весь этот смысловой ряд к чему-то ведет, к чему-то привязан… Смесь постыдного и смешного, анально-фекальная тема, благодарные слезы облегчения и конце… Бог мой! Вот он, диагноз эпохи, в которой кровь и фекалии слились в один поток: геморрой нашего времени. Помнится, у одного питерского прозаика герой, страдающий этим недугом, с такими же просветленными слезами вставал с очка…
Может быть, это и впрямь примета времени – полное отсутствие героя и вся симптоматика геморроя?
Ну, тогда спасибо Сергею Александровичу за диагноз. Мы-то думали, это конец… Но от геморроя, слава Богу, еще никто не умирал.
2002 год
Дмитрий Быков
Хроника одной бессмыслицы
Почти одновременный выход романа Юлии Латыниной «Промзона» и нового фильма Абдрашитова и Миндадзе «Магнитные бури» заставляет думать, что долгий, мучительный и довольно скучный процесс поиска нового языка, с помощью которого предполагается рассказывать о новой реальности, наконец завершился – и вместо сугубо формальных задач (нащупывание словаря, попытки овладения композицией etc) искусство начинает ставить задачи более серьезные, то есть осмысливать наконец эту реальность. После всякого крупного катаклизма больше всего страдает почему-то именно искусство, вынужденное в известном смысле начинать с нуля. Так, с неумелых и совершенно детских сочинений начинала молодая советская литература, и это было довольно забавное зрелище: с одной стороны, она вобрала опыт модернистов – от Белого до Верхарна, с другой – обнаруживала поразительную наивность, инфантильное легковерие и чудовищное невежество. Возможно, дело в том, что к сочинительству приобщается прослойка людей, совершенно к нему не предназначенных… но это было бы слишком легкое и приятное объяснение. Как ни крути, а молодую советскую литературу делали вовсе не рабкоры, не возлюбленный Горьким пишущий пролетариат, а дети купцов, разночинцев или дворян, от Леонова до Бабеля. Напрашивается другое объяснение: всякий социальный катаклизм, даже и благотворнейший по своим последствиям, есть прежде всего гибель наиболее тонких структур. Литература и кино – все-таки тонкое дело. Девяностые ушли на то, чтобы заново пройти школу, научиться правильно строить текст, лепить достоверного героя, помещать его в убедительно придуманные обстоятельства. Кончился период фэнтези, когда авторы придумывали другие миры исключительно потому, что не умели сладить с нашим. Я вовсе не настаиваю на том, что пришло время голого критического реализма, скучного описания «как было»: о нынешних временах, откровенно абсурдных, нельзя писать протокольную прозу. Соответствовать им можно, только научившись тому, что в теории литературы называется «сгущением и типизацией». Появилось сразу несколько мощных реалистических текстов, отличающихся, однако, нужной мерой обобщения; к этим сочинениям у меня свои претензии, о которых ниже, но о них уже можно говорить всерьез. Это вам не физиологический очерк – подготовительный этап настоящей литературы; это уже собственно литература и кино. Не хочу принизить роль очерка – ренессанс русской прозы, да и поэзии некрасовской школы, начался с «Физиологии Петербурга»; у нас эту благотворную роль сыграл Роман Сенчин, ни на что другое, кажется, и не претендующий.
Роман Латыниной «Промзона» совершенно напрасно назван экономическим триллером – этим, думаю, и читателя не привлечешь, и критику спутаешь карты. Разумеется, перед нами социальный гротеск, местами довольно острый, иногда смешной, чаще мизантропический. Интересно, что «Промзона» неподготовленному читателю (а таких, слава Богу, большинство) напомнит ивановскую «Чердынь – княгиню гор»: там тоже полно непонятных слов, тюркизмов и пермизмов, которые автор, кажется, на девять десятых выдумал сам для экзотики. Текст обретает новое качество, обессмысливаясь на глазах,- но сама эта бессмыслица становится важнейшей метафорой реальности, как у Всеволода Иванова в «Кремле» дикое количество едва успевающих мелькнуть персонажей создавало непреодолимую путаницу,- но она-то как раз и работала на ощущение мечущейся, зыбкой толпы.
Сама Латынина не предполагала такого эффекта – она человек крайне серьезный, готовый бесконечно копаться в перипетиях тайной экономической жизни регионов; проза ее – никакие не романы, а художественные исследования, в которых эротические эпизоды (написанные очень ходульно) присутствуют лишь постольку, поскольку олигархи время от времени ссорятся из-за баб или дарят им прииски. Формально «Промзона» – нормальный производственный роман, написанный со знанием дела; действие его разворачивается частью на выдуманном Ахтарском металлургическом комбинате, частью – в промышленном городе Черловске (вот вам еще одна непреднамеренная «рифма» к Чердыни), а иногда – в Москве, в «престижных ресторанах» и даже в президентской администрации. Кстати сказать, президент Путин получился у Латыниной посимпатичней, чем можно было ожидать от журналистки либерального лагеря, хотя главная интрига идеально укладывается в рамки либеральной идеологии: ворюги нам милей, чем кровопийцы. Ужи не знаю почему: потому, вероятно, что ворюги иногда с нами делятся, а кровопийцы, паразиты, никогда. Впрочем, допускаю, что автору как человеку творческому действительно милы бандиты, авантюристы, крепкие хозяйственники, полууголовные промышленники,- всё лучше, чем безликая, серая мощь государства, стоящего на плечах ничем не брезгующих спецслужб. В заложниках у спецслужб ходит и сам президент: сам-то он хороший, да вот крепкие государственники, желающие строить новую государственность, пытаются его именем отнимать собственность у обаятельных джентльменов удачи, персонажей как на подбор сильных, могутных, стихийных и неотразимо притягательных. Латынина, собственно, и не скрывает своей зачарованности ими – и это, пожалуй, самое неприятное, что есть в ее романе. Она как-никак принадлежит по рождению к русской литературной интеллигенции, имеет высшее классическое образование, занимается журналистикой, а не черным каким-нибудь пиаром,- и ей полагалось бы в принципе бороться с любовью ко всем этим Прохорам Громовым нашего времени, нажившим свои приваловские миллионы в драках куда более грязных и «беспредельных», нежели Приваловы времен раннего русского капитализма. И Мамин-Сибиряк, и Шишков, и даже Горький ничего не могли сделать со своим преклонением перед титанами первоначального накопления, купцами решимости страшной и силищи непомерной; сам Островский был зачарован Паратовым, хотя все про него понимал. Русская литература стоит перед богатыми людьми как бесприданница: ей все понятно… и все-таки нестерпимо хочется! Обаяние богатства, широты, зверства; интеллигентское завистливое преклонение перед силой, размахом, решимостью… Еще Бунин замечал, как дурновкусны были все устные рассказы Горького о волжских купцах, выходивших у него как на подбор былинными богатырями; хочет того Латынина или нет, но ее олигархи – те же горьковские купцы: лопатообразные ладони, страшная физическая сила, властность, железные нервы… Бандит Степан Вельский, фанатично влюбленный в самолеты и жаждущий лично проводить реформу российской армии,- описан и вовсе с восторженностью институтки: только очень наивный журналист способен искренне верить в бандитский патриотизм… или во всевластные спецслужбы, которые за спиной президента нарочно стравливают одного крутого с другим! Идеология Латыниной вполне укладывается в рамки либерального (а на деле – блатного) дискурса: бандиты играют хоть по каким-то правилам, а у администрации президента (и у чекистов) вовсе никаких правил нет. Подобные идеи высказывали многие диссиденты, в том числе отсидевшие: в лагере самая страшная сила – администрация. Эти – настоящие беспредельщики. Блатные по крайней мере блюдут несколько заповедей, переступить через которые им не позволяет гордость. Такая точка зрения имеет право на существование, хотя перенос ее на реалии российского государства глубоко мне отвратителен – уже потому, что государство не зона. С этим, думаю, многие не согласятся… Но роман Латыниной интересует меня вовсе не с содержательной стороны. Как уже было сказано, идеология его тривиальна и беспомощна, интрига предельно искусственна, композиция не сбалансирована,- и со всем тем перед нами превосходная книга, в которой автор (как оно всегда и бывает в случае литературной удачи) проговорился откровеннее, нежели хотел.