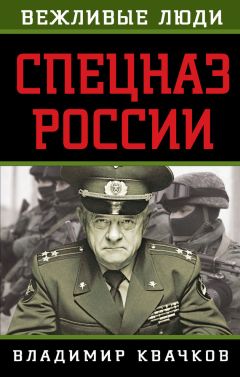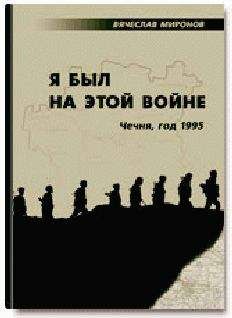Александр Блок - Том 6. Последние дни императорской власти. Статьи
По моим наблюдениям и по собственному моему внутреннему опыту, постановки с площадками, ширмами и без занавеса отнимают у театра театр, ставя неодолимые преграды воображению современного зрителя — зрителя топ эпохи, когда весь тяжелый механизм декораций и театральных машин уже изобретен и пущен в ход.
Тягость положения всякого художника в нашу эпоху заключается, по моему мнению, в большой степени в том, что нам приходится иметь дело с двумя породами людей: одни — большинство — так утомлены и озабочены борьбой за существование, все растущей но мере роста вавилонской башни цивилизации, — что воображению почти не остается места в их запуганной душе: они не могут переносить необычайного, сказочного, удивительного; короче говоря, они не могут переносить искусства в больших дозах.
Другие — меньшинство — страдают, напротив, расстройством воображения. Это — какая-то особая болезнь нашего времени, довольно необычная, но, однако, столь распространенная (в городах, конечно), что о ней стоит говорить. Это — любители всяких искусств, которые сами не обладают творчеством, но сосут, как упыри, кровь из художников, выжимают из произведений искусства всех времен все соки, какие способны выжать, исключая единственного и главного — того, что им недоступно. Это — заказчики, диктующие художественные вкусы, требующие от художников все нового и нового, истощающие вдохновение того художника, который вздумает их слушаться. Это — умные, тонкие, несчастнейшие в своем роде люди, ненасытные, больные, нищие при всем богатстве своих вкусов, а иногда и знаний, жалкие в своем искании все более экзотического и пряного. Эти любители стихов всех современных поэтов и постановок всех современных режиссеров — любят, между прочим, и то разоблачение художественной техники, которое составляет, по-моему, суть той условной постановки, которая рекомендуется в разбираемой пьесе. Им нравится, чтобы было видно, как переставляются декорации, так же как нравилось бы, вероятно, чтобы стихи печатались в виде ритмических и метрических схем, формул, будто бы возникающих в мозгу у поэта. Я думаю, что считаться с этими людьми было бы преступлением; по-человечески — их положение трагично, но в глазах художника — они комичны.
Считаться можно только с людьми; и нельзя скрывать того, что считаться с современными людьми, усталыми и запуганными, все более дичающими от цивилизации, художнику современности невероятно трудно. Думаю, что требовать избытка воображения невозможно, бесполезно; насилие над воображением только спугнет его, загонит в самый темный угол души; я не считаю себя лишенным воображения, но когда с меня требуют, чтобы я на площадках и в ширмах представил все то, что описано, например, в ремарках к «Алинуру», — я только тупею и перестаю воспринимать что бы то ни было. И обратно: я начинаю чувствовать, думать, воображать, изобретать, то есть «творить» вместе с автором и артистами только тогда, когда мое внимание сосредоточено и не развлекается хитрыми, хотя бы и талантливыми, выдумками.
Думаю, что прием современного художника должен заключаться в совершенно обратном: в том, чтобы быть бережливым; в том, чтобы не перегружать произведение искусства — искусством, если можно так выразиться. Надо убаюкать зрителя простым и натуральным, чтобы затем разбудить его отдыхающее воображение неожиданной искрой искусства. Отсюда — современный художник, к какому бы цеху и направлению он ни принадлежал, в работе своей — «натуралист», ремесленник, ворочает глыбы, таскает на плечах грузы психологии, истории, быта. — Об этом можно говорить много, но я боюсь, что и без того давно уже вышел из рамок рецензии.
Резюмируя, я должен сказать, что упрек мои авторам «Алинура» состоит в том, что они перегрузили свое произведение страшными требованиями; они надавали литературных векселей, которые театр едва ли согласится оплатить. Они совершили большой труд, но труд все еще недостаточный для театра, так как дали богатый материал, но не указали способа его преодолеть.
Я позволяю себе говорить на эту тему только потому, что сами авторы ввели в текст указания относительно постановки. Я думаю, что пьеса очень выиграла бы без этих указаний, тем более что некоторые из них, даже мелкие, кажутся мне просто физически невыполнимыми (как можно, например, сидя по сторонам куста, то есть будучи отделенными друг от друга этим кустом, рассматривать и развертывать один и тот же плащ?).
По моему личному мнению, было бы приятно видеть в печати эту интересно обработанную сказку, в которой есть блестящие в литературном отношении места, с некоторыми исправлениями в языке и с исключением указаний, касающихся постановки, хотя и не очень обильных, но расхолаживающих при чтении. Что касается постановки на сцене, то это — новый разговор; мне лично кажется, что она необыкновенно трудна и потребует применения очень сложных театральных машин для того, чтобы выполнить указания авторов, которые при постановке условной в лучшем случае совершенно пропадут.
Из заметок моих о частностях я упомяну только об одной: ни за что не оставил бы я в детской пьесе той исполненной иронии ремарки, которой оканчивается пролог: «Вся последняя сцена идет под звуки музыки, которая возникает всякий раз, когда нужно помочь публике растрогаться в местах трогательных и без того». Это — двусмысленность, за которой стоит довольно сложная теория, непонятная для детей.
3 сентября 1918
«Отчего вечно зелены хвойные деревья»
Пьеса в 1 действии по сказке Ф. Хольбрук.
Рукопись
В основание сказки положена легенда о том, что Мороз (?) запретил Ветру (?) трогать хвою ели, сосны и можжевельника за то, что они согласились приютить больную птичку, которая не могла улететь в теплые края.
Едва ли это предание, по крайней мере в такой форме, народно. Отсюда — отсутствие свежести в самом сюжете.
Чувствуется прикосновение цивилизованной руки.
Автор пьесы не обнаружил никаких литературных способностей. Стихи и размеренная проза — характерны для дилетанта. Словарь беден, как у среднего дачника. Текст пестрит уменьшительными — обычный прием подделываться под детский говор. Междометия столь же невыразительны, сколь банальны; для ветра — гугу-гу, для листьев — шу-шу-шу. Действия и ролей нет, и вся пьеса — короче воробьиного носа, так что делать с ней решительно нечего.
12 сентября 1918
М. Я. Загорская. Первые (Тайное общество)
Драма в 4 действиях.
Изд. библиотеки Ларина, Пб., 1918
Душою заговора против самодержавной власти, зреющего среди представителей аристократии и долженствующего напоминать заговор декабристов, является приемный сын старого придворного, молодой граф Михаил. Сигналом к восстанию должна послужить смерть безнадежно больного императора; однако в тайном обществе уже дает себя знать разложение: есть колеблющиеся, есть трусливые, есть и доносчик, благодаря которому нити заговора оказались в руках глав верховной власти. Новый император, занявший отцовский престол, подвергает аресту виднейших заговорщиков с графом Михаилом во главе и при помощи искусного допроса склоняет к откровенности и к выдаче соучастников всех членов общества, кроме одного: граф Михаил остается непреклонным.
Такова политика. За политикой следует любовь.
Княжна Лиза и ее приемный брат, граф Михаил, любят друг друга. В Лизу влюблен, кроме того, друг Михаила Чернин, и ею же увлечен новый наследник престола, с которым она притворно кокетничает.
На почве этих любвей, влюбленностей и увлечений происходит некоторое количество театральных коллизий и более или менее эффектных сцен — в кабинете императора, в крепостном каземате и в усадьбе старого князя, отца Лизы. Судьба главных действующих лиц такова: граф Михаил повешен в числе пяти заговорщиков; княжна Лиза, не выдержавшая казни жениха, высказывает его высочеству ряд горьких истин и топится в реке; отца ее постигает удар.
В мелодраме есть довольно много второстепенных ролей, которые, как и главные, могут дать материал для талантливых актеров; сама же по себе пьеса не заключает в себе ни одного живого лица и ни одной оригинальной черты. Не слишком любя русский язык (княжна одевает брошь), автор часто опускается до самых банальных газетных тирад. «Мы, аристократы крови и духа, питающиеся трудами народа, должны заявить тирану свой протест», — говорит граф Михаил. К концу пьесы число подобных тирад возрастает. Все это заставляет признать пьесу совершенно лишенной литературных достоинств. Тем не менее нет особенно веских причин для того, чтобы препятствовать постановке на какой-нибудь городской сцене этой ни к чему не зовущей, никаких новых далей не открывающей, но довольно умело скроенной мелодрамы, при условии больших сокращений.