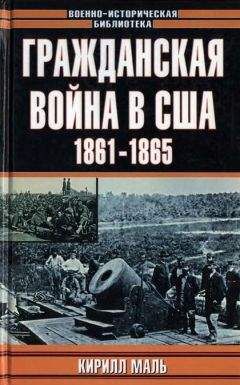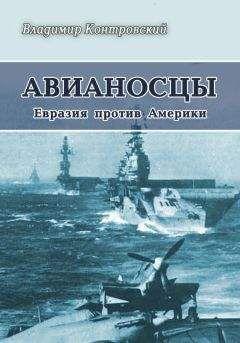Секретное задание, война, тюрьма и побег - Ричардсон Альберт Дин
Было сделано все возможное, чтобы оказать ему лестный прием. Огромные толпы празднично одетых гуляющих людей. Повсюду флаги, балконы заполнены зрителями, и блеск сверкающего при закатном солнечном свете оружие выстроившихся солдат. У одной роты был изорванный и покрытый пятнами флаг, который прошел через мексиканскую войну. Другая несла иной флаг — яркий и многоцветный — изготовленный местными леди. Были флаги «Пеликан» [12], «Одинокая Звезда» и другие — самые разнообразные эмблемы и символы, но я нигде не видел старого национального флага. И это было хорошо — в такой обстановке «Звезды и Полосы» — увы! — были бы совершенно неуместны.
После приветственной речи, превозносившей его «не только мужественным солдатом, но и верным и честным патриотом», и его ответной реплики, что здесь, по крайней мере, он «никогда не будет считаться трусом и изменником», экс-генерал проехал по нескольким центральным улицам в открытом баруше [13], обнажив голову и кланяясь зрителям. Он почтенного вида мужчина, лет, по-видимому, около семидесяти. Его большая голова в верхней части не имеет волос, но по бокам ее несколько тонких белоснежных завитков, совершенно не замечающих достоинств «Краски для волос Твиггса» [14], струились на ветру. С ним рядом сидел генерал Брэкстон Брэгг — «Немного больше винограда, капитан Брэгг» — известный по Мексиканской войне. Кстати, люди, которые более всех осведомлены, заявляют, что генерал Тейлор никогда не произносил этих слов, а на самом деле сказал: «Капитан Брэгг, задайте им…!» [15]
Только что прибыла столь интересовавшая абсолютно всех инаугурационная речь Президента Линкольна. И все газеты пылко осудили ее. «The Delta», которая последние десять лет поддерживала Сецессию, считала ее сигналом к войне:
«Война — это великое бедствие, но, несмотря на все ее ужасы, это благословение глубокому, мрачному и проклятому позору такого подчинения, такой капитуляции, к которой теперь иностранные захватчики призывают южан. Тот, кто будет помогать таким — тем, кто будет стараться ослабить, отговорить или сдержать пыл и решимость народа противостоять всем таким притязаниям, — предатель, которого следует изгнать за пределы наших земель».
Под «иностранным захватчиком», как предполагается, следует понимать президента нашей общей страны! А под ужасным «подчинением» — всего лишь возвращение украденной государственной собственности и уплата импортных пошлин!
Конвент штата, который совсем недавно проголосовал за выход Луизианы из Союза, теперь ежедневно заседает в «Lyceum Hall». Его главный фасад обращен на площадь Лафайетт-Сквер — один из замечательных небольших парков, которые являются гордостью Нового Орлеана. На первом этаже находится самая большая публичная библиотека в городе, хотя в ней и менее десяти тысяч томов.
В большом зале выше собрались депутаты. На возвышении сидит экс-губернатор Мутон, их председатель, доблестный пожилой джентльмен, суровый и по-отечески строгий. Ниже его, за длинным столом, мистер Уит, полный и багроволицый секретарь, читает свой доклад скрипучим, словно звук потрескавшегося горна, голосом. За председателем — портрет Вашингтона в натуральную величину, справа от него — некое подобие Джефферсона Дэвиса, с тонким, безбородым лицом и грустными, пустыми глазами. Есть также портреты других делегатов и копия постановления о Сецессии, с литографическими копиями их подписей. Делегаты, как вы понимаете, сделали все, чтобы они были увековечены. Физически они выглядят прекрасно — цветущие широкоплечие мужчины, с мощной мускулатурой, хорошо развитыми и пропорциональными телу руками и ногами и ростом явно выше любого среднего северянина.
Глава III
«Буду я послушен
И кроток» [16].
Удача и везение, которые позволили мне так непосредственно ознакомиться с планами и целями вождей Сецессии в Мемфисе, не покинули меня и в Новом Орлеане. В течение нескольких лет я был лично знаком с редактором одного из популярных здесь ежедневников — опытным писателем и оригинальным сецессионистом. Будучи в неведении, насколько ему хорошо известны мои политические взгляды, и опасаясь вызвать его подозрения тем, что якобы избегаю его, я на следующий день после прибытия в город зашел к нему.
Он принял меня очень любезно и абсолютно не догадывался о моем поручении. Он пригласил меня на заседание Конвента штата, членом которого он являлся, провел меня по редакционным отделам и представил меня в «Демократическом клубе Луизианы», который теперь стал сецессионным клубом. Среди выдающихся повстанцев, принадлежащих к этому клубу, были Джон Слайделл и Джуда Ф. Бенджамин, еврей, которого сенатор Уэйд из Огайо удачно охарактеризовал как «израильтянина с египетскими принципами».
Прием в этот клуб был окончательным доказательством политической убежденности. Вряд ли даже в гостиной Джефферсона Дэвиса планы заговорщиков обсуждались с большей откровенностью. Другой мой знакомый представил меня в «Читальном зале для торговцев», где царили те же чувства и такая же откровенность. Главный офис газеты также был постоянным местом собраний сецессионистов.
Все эти знакомства дали мне ценную возможность изучит цели и образ мыслей ведущих революционеров. Мне не пришлось задавать вопросы, вся информация сама вливалась в мои уши. Мне больше не пришлось никого обманывать, я просто молча слушал высказываемые мнения. В то время как я рассказывал о Нью-Мексико и Скалистых горах, мои собеседники говорили о Сецессии, и каждый день я получал от них столько сведений об их секретных планах, что если бы я не был вхож в их круг, я бы узнал о них только за месяц. В обычном общении они были добры и приятны. Их ненависть к Новой Англии, которую они, похоже, считали «главной причиной всех наших бед», была очень сильна. Они также охотно осуждали «The Tribune», а иногда и ее неизвестных южных корреспондентов, но со своеобразной горечью. Поначалу их проклятия невероятно сильно и неприятно раздражали мой слух, хотя я всегда с ними соглашался. Но со временем я научился слышать их не только безмятежно, но и даже получая некое удовольствие от смехотворности сложившейся ситуации.
У меня не было ни одного знакомого в этом городе, которого я бы знал как юниониста, или с которым я мог разговаривать совершенно откровенно. Это было очень неприятно — порой почти невыносимо. Как я хотел хоть кому-нибудь открыть свое сердце! В последнее время, с тех пор, как со своими крепкими убеждениями я покинул Север, давление на меня со всех сторон было настолько велико, и мои взгляды из-за сильного воздействия этой повстанческой среды настолько исказились, что порой я чуть с ума не сходил. Теперь я смог полностью осознать, сколько сильных людей Союза было поглощено этим почти непреодолимым валом. Я получал просто невероятное удовольствие, читая в «Демократическом клубе» северные газеты. Там была даже «The Tribune». Этот клуб был настолько безупречен, что можно было подумать, что он находится под патронажем Уильяма Ллойда Гаррисона или Фредерика Дугласа.
Брань, которой газеты Юга осыпали Авраама Линкольна, была воистину чудовищной. Речи, которые произносил новоизбранный президент по пути в Вашингтон, были несколько грубоватыми, совершенно не соответствовавшими его высокой репутации, которую он обрел в больших сенатских дебатах с Дугласом, когда благодаря его участию во всех обсуждениях спорных вопросов проявились его особая сила и непревзойденная логика. Газеты мятежников ежедневно подчеркивали резкий контраст между двумя Президентами, объявляя м-ра Дэвиса джентльменом, ученым и государственным деятелем, а м-ра Линкольна — вульгарным шутом и демагогом. Одним из их любимых эпитетов был «идиот», и еще один — «бабуин», в точности как тогда, когда полторы тысячи лет назад римские сатирики смеялись над великим Юлианом, называя его «обезьяной» и «волосатым дикарем».