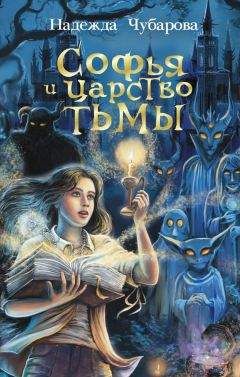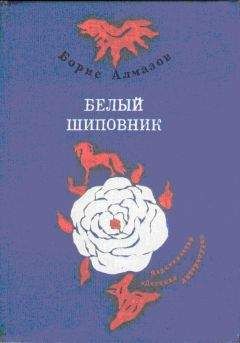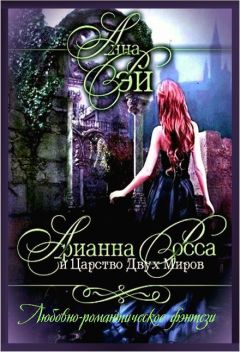Борис Парамонов - След: Философия. История. Современность
Тема стихотворения — жизнь, лишенная глубины, подземного, хтонического измерения. Стихи Бродского — об утрате полноты бытия, немыслимой без его «нижней бездны». Эта бездна — первоисточник жизни. Жизнь усечена наполовину, она перестала быть целостной, стала дробной.
Отсюда — одна из важнейших оппозиций стихотворения: круг и квадрат. Круг — это символ целостности, сферичности замкнутого на себя бытия, его «закругленности». Этому противопоставлен вырезанный на плоскости квадрат, внутри которого — дыра, пустота:
Квадраты окон, сколько ни смотри…
Квадраты окон, арок полукружья…
…воздух входит в комнату квадратом…
…На круглые глаза
вид горизонта действует, как нож, но
тебя, Бобо, Кики или Заза
им не заменят. Это невозможно.
В том же образе дана тема траура:
Прощай, Бобо, прекрасная Бобо.
Слеза к лицу разрезанному сыру.
Плачет сырная головка («сфера»), разрезанная пополам, разделенная на полушария; слеза — на плоскости сечения.
Планиметрии петербургского классического пейзажа противопоставлена стереометрия изначального «архетипического» бытия, Адмиралтейству — «бабочка». Из этой самодовлеющей, самодостаточной глубины человек выпадает на плоскость, целостность сменяется дробностью:
Сорви листок, но дату переправь:
нуль открывает перечень утратам.
Эта раздробленность, дурная бесконечность создает иллюзию перспективы, движения, «прогресса»:
Нам за тобой последовать слабо,
но и стоять на месте не под силу.
Твой образ будет, знаю наперед,
в жару и при морозе-ломоносе
не уменьшаться, но наоборот
в неповторимой перспективе Росси.
Здесь — вторая из важнейших оппозиций стихотворения: мороз — жара (огонь). Привычные соотношения резко изменены: жара как атрибут хтонического царства, Ада, «геенна огненная» противопоставлены морозу наружного, «сознательного» бытия, как жизнь и смерть:
Такой мороз, что коль убьют, то пусть
из огнестрельного оружья.
В этой «геенне огненной» человек обретает новую жизнь, вернее — она и есть источник жизни. Жизнь вне «Ада», вне глубины сводится к плоскости, тавтологична, лишена сновидений:
Сегодня мне приснилось, что лежу
в своей кровати. Так оно и было.
Сны без Бобо напоминают явь,
и воздух входит в комнату квадратом.
Вместо Ада — потустороннего измерения — нам предлагается пустота:
Наверно, после смерти — пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.
…Бобо моя, ты стала
ничем — точнее, сгустком пустоты.
Оппозиция мороза и огня имеет вариант — снег и вода. Вода равносущна огню, и то и другое — стихии, элементы бытия и в этом качестве онтологичны. Зато вода противопоставляется снегу, хотя их природа как будто бы одинакова. Но снег состоит из кристаллических образований, это «структура», а значит — культурное явление, то есть ограниченная земная форма. В петербургском пейзаже культуре, как ее компенсирующее углубление, противостоит, естественно, Нева.
На улицах, где не найдешь ночлега,
белым-бело. Лишь черная вода
ночной реки не принимает снега.
«Ночная река», «черная вода» — это характеристики уже не Невы, а Леты. Но хтоническая река оборачивается хранилищем жизни, растворяющим в себе кристаллизованные, мертвые образования культуры. В этом смысле стихотворение Бродского оказывается неожиданной корреспонденцией к «Медному всаднику».
Стихотворение заканчивается стопроцентно романтическим ходом — поэт могуществом слова воссоздает бытие из ничто:
Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней, как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.
Теургическая узурпация смягчена тем, что «слово» дано со строчной.
Интересен «четверг» в вышецитированном четверостишии. Он соотносится со «средой» в одной из предыдущих строчек:
Бобо мертва. Кончается среда.
Здесь «среда» — не день недели, а образ обстояния, окружения (круг!), сферы. Когда Бобо умирает, среда сменяется четвергом, сферичность уступает место бесконечной линейной последовательности — Петербурга, прогресса, культуры. Возникает ассоциация с квадратурой круга — невозможно многоугольник, сколько ни увеличивай число его сторон, вписать без зазора в круг, бесконечным движением заменить изначально данную, но утраченную полноту.
Эту ситуацию моделирует само стихотворение — квадрат, вписанный в круг: его четыре равновеликие главки — четыре стороны квадрата; круг — тема Бобо. Эта конфигурация — знаменитая юнговская «мандала», образ целостности. Таким образом здесь, в стихотворении, символически преодолена противопоставленность квадрата и круга, то есть тем становящейся культуры и изначально данного бытия.
Стихотворение можно было бы снабдить подзаголовком — «Потерянный Ад». Ад реабилитирован, он не менее нужен, чем Рай, без него нет полноты бытия. Собственно, сами эти слова: «ад» и «рай» — позднейшие ценностные, то есть морально квалифицирующие, определения для единой реальности углубленного в бесконечность бытия. Вот почему о Бобо говорится:
Ты всем была…
Тема стихотворения Бродского, сформулированная в собственно юнгианских терминах, будет темой о компенсаторных механизмах психики. Это звучит очень специально, но здесь заключается не только технический вопрос о различии в чисто научной трактовке психиатрических проблем Фрейдом и Юнгом, но и содержится некая философема. Сначала несколько слов о первом. Фрейд считал невроз только болезнью, Юнг же не раз говорил о преимуществе быть невротиком. Самую структуру невроза оба понимают, в общем, одинаково: это давление бессознательных содержаний психики, недостаточно вытесненных; но у Фрейда содержание невротического образования указывает единственным образом на прошлое; это не ассимилированное в целостное «я» прошлое детерминирует личность невротика. У Юнга, напротив, невроз может быть указанием на будущее, так сказать, зашифрованной программой индивидуального развития. Самый простой пример: невротическая девушка видит сны, в которых ее мать выступает в роли страшного и враждебного ей чудовища; между тем мать сверх всякой меры заботится о ней. Сновидение, истолкованное по Юнгу, говорит о скрытом желании девушки избавиться от этой угнетающей опеки; поэтому бессознательное рисует любящую мать чудовищем, оно понимает, что от этой опеки должно избавиться. Философема здесь та, что психика может быть детерминирована не только каузально, но и телеологически. Это и есть компенсаторное действие бессознательного: оно дает альтернативу к наличному состоянию душевной жизни. Таким образом, психика выступает как саморегулирующаяся система.
Конечно, в факте саморегуляции какой-либо системы нет еще ничего «идеалистического». Любой живой организм — пример такой системы. Телеология сама по себе не противоречит детерминизму, существует целевая детерминация, что знал еще Аристотель, формулировавший понятие «конечной причины», то есть цели. Вопрос, поставленный аналитической психологией, более интересен: она выводит к мысли об автономности психического. Собственно, идея коллективного бессознательного и должна эту мысль фундировать. Вспомним еще раз Фрейда: даже в предельных построениях его метапсихологии, утвердив первичность — то есть несводимость к чему-либо иному — феноменов психики, он задавался вопросом об их происхождении и говорил о каком-то изначальном событии (вызвавшем бытие к существованию), о котором еще нужно догадаться, как он догадался о происхождении морали из отцеубийства в первобытной орде; он оставался редукционистом даже там, где, по-видимому, им не был.
В отличие от Фрейда, Юнг был вполне удовлетворен тем, что ему удалось погрузить индивидуальные душевные явления в лоно коллективной души, или коллективного бессознательного. Он принципиально отводил вопрос об «объективном источнике» психического, не стремился ни к каким «мета», хотя воссозданная им картина мира, так сказать, чрезвычайно философична. Она совсем не похожа на то, что думала о бытии прежняя наука. Эта непохожесть — результат новой оценки психического, понимания его именно как автономной системы. В этом измерении бытие перестало быть схемой движения атомов, зато оно начало сильно напоминать то, что говорит древняя индийская мудрость или философия Гегеля. Это наука, превзошедшая самое себя. Таков ход всякого прогресса, если уж мы хотим сохранить это достаточно скомпрометированное слово: авангардные достижения оказываются реакцией, поворотом к давно известному, к вечному. Вспоминаются слова К. Леонтьева, сказавшего, что способность к реакции есть признак живого, прогресс без реакции — наихудшая из догм. Или, как говорит французская пословица: новое — это хорошо забытое старое.