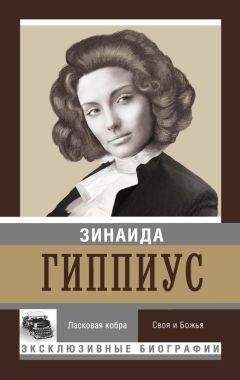Зинаида Гиппиус - Язвительные заметки о Царе, Сталине и Муже
(Началась близость с того, что я у Розанова спросила Карташева, писал ли он когда-нибудь стихи, и он на другой день прислал мне ужасающие стихи десятилетнего лавочника, которые я послала назад, обстоятельно разбранив. Вскоре он стал писать прилично, но со страшными срывами в безграмотность и уродство!) Я думала, конечно, что «а вдруг он в меня влюбится?». И отвечала себе, что это и хорошо для него, пожалуй, влюбленность откроет для него сразу все, до чего без нее годами не дойти ему. Это, в связи с его «девственностью» (он мне сказал о ней как-то у камина, после обеда), и с девственностью, теперь, по его словам, не аскетическою, а примиряющею плоть и красу мира, — это все заставило меня, конечно, «кокетничать» с ним, давало какую-то возбужденную радость и стремительность, жажду убедиться, что возможности мои и во мне. Что оно есть вообще. Это было главным образом, но так как душа сложнее, — то, конечно, и тени другого всего были, и тщеславия доля, самого примитивного, старинного, и всего. но это уж из добросовестности прибавляю. Еще меня трогала и влекла его нежная любовь ко Христу. Я не хотела знать (не сумела бы тогда увидеть), что это что-то — старая, неподвижная точка, осколок старой чаши, разбитой жизнью и «рацио», старая любовь к старому. Привычное. И привычное соединялось никак с непривычным, т. е. со мною, с моим.
Мы виделись и говорили. Когда бывали оба — я говорила больше с Успенским, но не видя его, или полувидя, а для Карташева. Я баловала их, я пыталась показать им настоящее красивое и заботливо создавала для них массу подлинних внешних мелочей, от густых деревьев ромашки в моей комнате до стихов Пушкина и Лермонтова (уже не Бальмонта), которые я им сама с любовью читала поздними вечерами. Я хотела и мечтала создать
Карташеву такой новый мир, который был бы для его растущей души дождем, и она, не смятая, расцвела бы для. всего будущего, моего.
Не увлекаюсь ли я? Как разрисовала — себя! Э, все равно. К делу. Что он «влюблен» — это как то сказалось, или узналось, само собою. В письмах, должно быть. О «взаимностях» не было речи. Вообще все было как-то иначе, нежели прежде, ни на что не похоже. И это была моя радость. И все я приписывала чистоте. И о любви думала — наконец! Вижу глазами. Вот чего не хватало другим! Вот где моя мысль об «огненной чистоте»! Значит, «есть на свете», значит, мое мечтанье не только мое, одной меня! Вперед, вперед в этом!
Письма у него были очень хорошие, со срывами — но лишь противу-эстетическими, внешне. Я это прощала, ввиду его эстетической молодости. Подхожу к очень важному факту, к очень высокой точке в этой двойной истории.
Весна кончалась. Я рвалась в Заклинье, на старинную, красивую дачу, которую увидев полюбила за ее грустную прелесть. (Дачи вообще так оскорбительны! Эта — нет). И устала я «существовать». История, которую рассказываю, занимала едва ли одну пятую моей внутренней жизни тогда, несмотря на ее связанность со всем (для моего сознания).
Д. С. пригласил профессоров к нам на дачу. Они уезжали, перед каникулами, в Крым, но с радостью обещали приехать на три дня перед Крымом. И пятого июня приехали, а восьмого утром уехали.
Они приехали. Успенского я опять не заметила, да он и вел себя как отпущенный гимназист; бегал по лесу, резал палки и пел романсы и песни. А в Карташеве было что-то робкое, значительное и таинственное. Он был почти красив иногда, в белой войлочной шляпе, на широком крыльце, у кустов сирени. Или вечером — ночью, над водой, там, на старых мостках. И тонкий, немного надтреснутый тенор мне нравился, когда вдруг обвивал грубоватый, сильный и немузыкальный голос Успенского.
Но не тогда, а вечер на восьмое (утром рано они уезжали) хорошо пели. И не песни. Была бледная, ясная ночь. Мы сидели на крыльце в сад. Они на ступенях (и другой был тут), я наверху на кресле, перед ступенями, закрытая длинным белым вуалем (мы все носили, от комаров). Везде сирень, у всех сирень, в руках, на коленях, в волосах. Между озером и нами догорал костер. Над озером взошла розовая-розовая луна. Они пели «да исправится молитва моя». И так хорошо спели (т. е. так хорошо это было), что после «исправится» никто уже не хотел ничего. Хотелось тишины.
Наверху широкой внутренней лестницы, направо от моей двери — дверь в коридор, который мы называли «монастырским». Там было три «кельи», именно кельи, сводчатые, белые, с глубокими острыми окнами. В дальнюю я поместила Успенского, в ближнюю Карташова. Вечерами я их туда провожала.
И в этот вечер пошла. Втроем мы прошли к Успенскому, там я с ним простилась. Потом зашла в келью Карташева. Он сел на стул, я на широкий подоконник.
Занавеси не было, и в белой келье было чуть-чуть лишь сумерки.
— Как хорошо, — сказала я, обертываясь к белому, свежему небу. — Вы завтра уезжаете. Я думаю о том, что подарю вам на память.
— Мне не надо ничего, — проговорил он, не понимая. — Зачем дарить? Разве вы думаете, что я забуду.
Странно, что я так. робка во всех движениях. Точно внешние путы на мне всегда. Мне стоит величайших усилий воли то, что я считаю нужным, праведным и чего сама хочу Это даже не робость. Это — какая-то тяжесть, узы тела, на теле; какое-то мировое, вековое, унаследованное отстранение себя от тела, оцепенелость тела, несвобода движений. Во всем, часто, с другими — внутри возникает непосредственное движение, естественное — и внутри же замирает, не проявившись. Это, я думаю, у многих. Это, я думаю, от векового проклятия всей «грешной плоти» во всем. Волны от столпничества.
— Ничего не надо? — сказала я, встав с подоконника. — Вы не знаете, что я хочу вам дать. И это хорошо, что хочу, и это надо.
Взяв его за голову, я поцеловала дрожащие, детские — и, может быть, недетские — губы. Он испугался, вскочил, потом упал вниз и обнял мои колени. И сказал вдруг три Слова, поразившие меня, которых я не ждала и которые были удивительны в тот момент по красоте, по неуловимой согласности с чем-то желанным и незабываемым. Он сказал:
— Помолитесь за меня.
И повторял:
— Помолитесь, помолитесь. я боюсь. Я вас люблю. Я боюсь, когда счастье такое большое.
Я наклонилась, и еще раз поцеловала его, и потом еще.
А потом я ушла, после каких-то недолгих речей, которых не помню, но в них не было теней.
Не помню ясно и что я думала. Моя громадная комната была полна серым, жемчужным светом ночи, в душе — туманность и правота! Правота! Вот это помню.
И правота моя, конечно, была не правотой. Я опять забыла: цветок не может расти в безвоздушном пространстве. Этому цветку необходим его воздух. И в воздухе — уже цветок. А я думала его взрастить сначала. И уж потом, как бы через. Вечная ошибка! Но несколько мгновений цветок может жить без воздуха. Несколько мгновений он и жил, подлинный. почти.
Я написала «почти» как-то невольно; думая — понимаю, почему «почти».
Да потому что тут еще одного условия не было: равенства. У меня было сверху вниз, а у него снизу вверх. (Не странно ли, что и реально оно так было, фактически.) Он был влюблен — ая нет. Я волновалась, я была растрогана, он даже нравился мне, но я по совести не могу сказать, что была влюблена (как я умею). Спешу оговориться: я думаю, что в настоящей «влюбленности» (не внеатмосферной) есть еще тот плюс, что она вполне возможна невзаимной, просто только тот, кто не любит — ничего не получает, беднее; кто любит — получает много. Конечно, лучше, чтобы оба получали много, это ясно; и еще лучше, чтобы два «много» сливались, образуя одну «громадность» (при взаимности); я говорю только, что возможна и прекрасна и невзаимность. Ревность в пространстве атмосферы вряд ли мыслима; грусть о «громадном»), тихая печаль — да; но ведь все-таки остается «много». Вот ревность заатмосферная — но она уже вырастает во всеобъемлющую, она.
Так вот тогда мне было как-то обидно, что даже если у него «много» (хоть на мгновенье) — то ведь я — бедна. Я — для себя тут ничего не получаю, кроме радости за него. Прикосновенье его дрожащих губ было мне радостью и волнующе — но для него, за него! Это была не только духовная радость, и тело в ней участвовало, — но не кровь. (Не умею сказать! Досада какая! Забуду сама потом!)
Он уехал. Я долго не получала писем, потому что сама тотчас уехала на Волгу. (Нет, впрочем, одно письмо из вагона я получила в Петербурге. Очень хорошее, все так подтверждающее, все, как я думала.) Вернувшись в Заклинье — я нашла еще два-три, восторженных — ис курьезной постепенностью спадающих с тона. Налет мертвенности. Он сделался совсем явным в письмах из дома, а сам он писал, что дома впадает в какое-то небытие. Скоро совсем почти перестал писать, — но зато Успенский засыпал меня письмами, очень почтительно и детски-нежными (о любви не было).
Осень. Мы еще на даче (конец августа). Карташев и Успенский вернулись в Спб., мы пригласили их к нам на 29, 30 и 31. Круглая белая зала так располагала к «празднику». И я решила сделать «раут». Я написала шутливую мистерию с прологом «Белый черт», которую мы все должны были разыграть. Шутливая, домашняя, — но мысль была моя, за нее держусь (напишу поэму). Мы приехали в Спб. (я и Д. С.) на несколько дней. Карташеву я написала, чтобы он пришел вечером сговориться точно. Пришел и Тернавцев. Карташев был робок, странен, мертвен. Не поняла его. Мертвен — явно; и влюблен — тоже явно. Накануне отъезда мы встретились на Литейной с Д. С., и я, узнав, что он идет в «Мир искусства», — пошла с ним. (Вот забавный случай в скобках!) В «Мире искусства» — никого, кроме живущего там Бакста, принадлежности туалета которого были раскиданы по запыленным комнатам. Неприфранченный Бакст был очень сконфужен нашим визитом. Однако дал нам чаю (была ли нянюшка?), потом мы вместе говорили по телефону с Пирожковым, к которому Д. С. и поехал, а я осталась, было едва 6 часов. Так, от лени сдвинуться со стула.