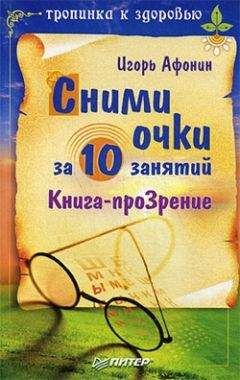Дмитрий Писарев - Московские мыслители
Но редакция "Русского вестника" постоянно, при оценке явлений современной литературы, останавливается на их внешней стороне; она смотрит на писателя не как на живого человека, увлеченного своею идеею или возмущенного тою или другою стороною жизни, а как на фотографический станок, передающий с бессознательною верностью контуры предмета, находящегося перед ним. Она не переносится в положение писателя; она вся уходит в анализ мелочей и подробностей, которым сам писатель не придает никакого значения.
Г. Грот поступает еще оригинальнее; задумав говорить о русской журналистике, он высказывает об ней следующие замечания, которые самым наглядным образом показывают нам, насколько г. Грот понимает интересы нашего времени. Во-первых, он упрекает журнальную критику в том, что она обнаруживает мало сочувствия к Карамзину и Жуковскому. Во-вторых, - в том, что она измеряет годность человека только тем, принадлежит ли он к старому или к молодому поколению. В-третьих, - в том, что "некоторые наши журналы и газеты начали употреблять также в виде насмешки и даже брани слово _ученый_". Вот вам, господа читатели, сумма мнений г. Грота о русской журналистике. Мне кажется, г. Гроту было бы удобнее писать заметки о шрифте, о бумаге, на которой печатаются наши журналы, о цвете их обертки, но только уж никак не о журналистике. Писать о журналистике, не будучи в состоянии отдать себе отчет в значении тех идей, которыми живут лучшие люди нашего общества, это чересчур оригинально.
Но если оригинально в этом случае положение автора заметки, то, конечно, еще гораздо оригинальнее поступок редакции, печатающей на страницах своего журнала такую статью, которая прямо противоречит мнениям редакции и обличает в авторе такую нетронутую глубину наивности.
V
Пропуская две статьи г. Лонгинова, отличающиеся полнотою библиографических сведений и полным отсутствием руководящей идеи, пропуская еще две статьи, из которых одна трактует о губернских памятных книжках, а другая о карте Самарской губернии, я перехожу к мартовской книжке, и встречаю ту статью о госпоже Толмачевой, {20} которая в свое время вызвала против себя заслуженное негодование в обществе и в периодической литературе. В этой статье редакция "Русского вестника" косвенно объявляет себя против эмансипации женщины и спрашивает: чего недостает нашим женщинам? Утешает их тем, что "у нас были знаменитые императрицы, на английском престоле восседает теперь королева, на испанском - тоже", и советует, вместо того чтобы эмансипировать женщину, - подчинить и мужчину известным ограничениям, ради охранения доброй нравственности. Этих фактов совершенно достаточно, чтобы дать понятие о букете этой статьи; о ней в свое время было говорено довольно много, и потому я ограничусь только беглым указанием на это произведение умеренного либерализма; в списке прошлогодних подвигов "Русского вестника" необходимо было поместить и эту статью, потому что в ней есть драгоценные выходки против эмансипаторов, против пустоголовых прогрессистов, против отрицателей общественных приличий, против губителей общественной нравственности. Добродетельный пафос, которым проникнуты многие отрывки этой замечательной статьи, представляет редкое и тем более отрадное явление в нашей легкомысленной литературе, посреди преобладания эгоизма, скептицизма, материализма и разных других безнравственных идей и стремлений. Не угодно ли вам, например, полюбоваться следующими строками. Ведь это просто оазис среди песчаной пустыни.
"Общественные приличия! Но что дает нам право ставить себя выше их? Можно ли допустить, чтоб общественные приличия нарушались во имя пошлых фраз, выражений ничтожества и пустоты? Что должно сказать при виде этого ничтожества, которое, под прикрытием громких слов: прогресса, просвещения, свободы, топорщится со свистом в голове стать выше целого общества, выше убеждений целого мира, клеймя их названием предрассудков? Общественные приличия имеют всегда какое-нибудь основание; вырабатываясь из жизни, они содержат в себе ее разум, и для того, чтобы судить о них, надо прежде понимать их" (стр. 36).
Не знаешь, чему больше удивляться, читая это неподражаемое место: силе ли пафоса, овладевшего автором, фразистости ли его произведения или же, наконец, тому изумительному отсутствию связи, которое мы видим между отдельными словами и предложениями. Можно сказать наверное, что если бы какая-нибудь модная барыня взялась защищать светские приличия против нападков разгулявшейся журналистики, то она сделала бы это дело гораздо успешнее, чем редакция "Русского вестника". Она бы твердо стала на хорошо знакомую ей практическую почву и не пыталась бы оправдывать общественные приличия с высшей, философской точки зрения. Такого рода диалектический прием имеет всю прелесть новизны в нашей литературе, и честь его изобретения принадлежит бесспорно редакции "Русского вестника". Вот еще одно место:
"Вы хотите возвыситься над общественными приличиями: остерегитесь, чтобы не упасть не только ниже их, но и ниже обнаженных отправлений скотской жизни. Вы домогаетесь благодати выше долга; но помните, благодатные люди, что она не исключает долга, а, возвышаясь над ним, дает только больше, чем может дать он. Вы лезете в гении, но не думайте, что для достижения этой чести надобно только отказаться от здравого смысла" (стр. 37).
Кого хочет поразить этими словами "Русский вестник", кого называет он благодатными людьми, кто лезет в гении и какое отношение вся эта тирада имеет к женщине, - этого я решительно не понимаю. Сомневаюсь даже в том, чтобы это было понятно самому автору статьи. Не мало курьезных цитат можно было бы привести из этой апологии Камня Виногорова, но мне предстоит еще пересмотреть много драгоценностей, и потому я поспешно иду дальше. Остановлюсь на минуту на статье г. Лонгинова о стихотворениях А. С. Хомякова. В этой статье начинает проявляться тот сладкий оптимизм, который составляет одно из преобладающих свойств критики "Русского вестника". Журнал этот относится чрезвычайно мягко и ласкательно ко всему тому, что не находится в связи с свистящею журналистикою. Все хорошо в нашей жизни, по мнению "Русского вестника", и только безмозглые отрицатели своими нестройными криками нарушают общую гармонию этой изящной жизни. Хомяков не принадлежал к безмозглым отрицателям, следовательно, его можно возвеличить, и действительно, г. Лонгинов величает его так усердно, что статья его делается похожею на панегирик. Те стихотворения, которые он приводит в подтверждение своих хвалебных отзывов, могут быть очень возвышенны по своему духовному полету, но мотивы этих стихотворений покажутся современному читателю чересчур античными и затронут в нем это живое чувство так же мало, как мало затронут это живое чувство самые лучшие места из "Мессиады" Клопштока. Сомневаюсь например, чтобы на кого-нибудь могло подействовать следующее произведение, выписанное в статье г. Лонгинова:
Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе,
Лучший подвиг - в терпенье,
Любви и мольбе.
Если сердце заныло
Перед злобой людской
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной,
Если скорби земные
Жалом в душу впились,
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись:
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда, без усилья,
Выше скорбей земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской.
Если бы эти стихи принадлежали не Хомякову, а какому-нибудь неизвестному поэту, я бы, может быть, назвал их холодною декламациею на заданную тему. Но Хомяков, как говорят все люди, знавшие его лично, был человек в высшей степени честный и глубоко искренний; следовательно, надо поверить поэту на слово и предположить, что он в этом стихотворении действительно выразил то, что чувствовал, то, в чем он был горячо убежден. Такого рода предположение оправдает в наших глазах личность Хомякова, но оно никак не заставит нас восхищаться произведением Хомякова и сочувствовать тому настроению, под влиянием которого оно написано. Может быть, мы не стоим на той высоте духовного развития и просветления, на которой находился Хомяков; может быть, нам недоступны те высшие духовные радости, о которых повествует поэт, только потому, что мы испорчены скептическим направлением нашего века и придавлены к земле мелкими заботами и нелепостями действительности; все это может быть, но, как бы ни были унизительны для нас самих причины нашего непонимания, мы все-таки откровенно сознаемся в том, что не понимаем идеи стихотворения. Что же касается до крыльев подвига и до возможности взлететь на них выше крыши темницы и выше многих других неприятных предметов, то нам, испорченным детям XIX века, подобные сочетания слов кажутся совершенными нелепостями, горячо прочувствованными самим поэтом, но: решительно не выдерживающими самой элементарной критики.