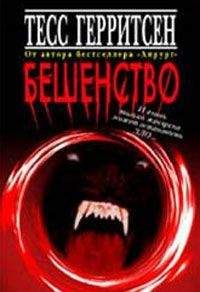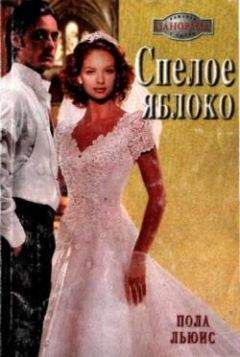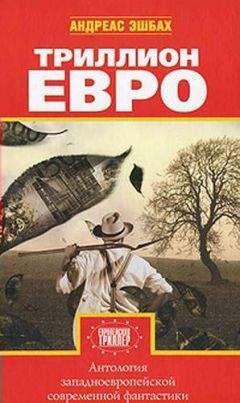Евгений Головин - Сентиментальное бешенство рок-н-ролла
Это подстрочный перевод стихотворения «Сумерки» немецкого поэта-экспрессиониста Альфреда Лихтенштейна, опубликованного в 1910 году. Проходит несколько сценок, позиций, объектов. Безразличных, случайных? Пожалуй, нет. Экспрессионисты начала века вполне тенденциозны в своих пессимистических настроениях. Поэт мог бы случайно зафиксировать и что-нибудь повеселей. Но, тем не менее, здесь ощущается намеренность стилистического метода, поиск свободной композиции: строки и строфы можно без особого ущерба менять местами и можно расценивать данный текст как фрагмент какого-либо другого текста.
Зачем все это цитировать и пояснять?
Приведем песню Василия Шумова из альбома "Однокомнатная квартира":
все больше семей живет отдельно
в личном уюте за частной дверью,
снимают показания собственного счетчика,
стены покрывают матовой перекисью.
моя жена скандинавской красоты
сочиняет баркароллы и выращивает крокусы,
думает о льдистом блеске Юпитера,
на кухне вычисляет алхимические фокусы.
мы живем в однокомнатной квартире,
под окном инвалиды играют в мяч,
их дети на роликах в подъезде носятся,
этажом выше кашель и плач.
профессора ботаника покинула любовница.
сосед играет на рояле Шенберга,
перепончатым ухом ловит звуки сладкие,
в двадцать два ноль ноль он бреет голову ребенку,
кормит и гладит стигийскую собаку.
почтальон приносит прошлогодние журналы,
несколько счетов за бытовые услуги,
открытку из диспансера для приемного сына, —
длинного двоечника с мозговой простудой.
родители жены шипят: займись спортом,
и заставляют выбегать в парк утром рано,
я одновременно работаю в трех организациях,
со следующей недели пою в хоре ветеринаров.
Я далек от мысли подозревать Василия Шумова в знакомстве с поэзией немецкого экспрессионизма, однако сходство стилистических методов налицо. Это лишний раз доказывает, что артисты разных поколений и национальностей, артисты, имеющие уши, способны расслышать ветер художественных движений эпохи. Стиль данного текста безусловно напоминает стихотворение Лихтенштейна: перед нами свободная композиция, допускающая разного рода перемещения и пролонгации. Спокойное музыкальное сопровождение и декламационная манера пения подчеркивают равнодушие исполнителя к событиям песни. Но перечисление, все же, не совсем безразличное: у героя песни (одновременно работающего в трех организациях) умелая и талантливая жена, и сосед, видимо, большой оригинал и храбрец, коли находит музыку Шенберга «сладкой» и к тому же кормит инфернального пса. В этой песне (и во многих других) ощущается сдержанное удовлетворение социальными успехами в стране, но, в то же время, известное равнодушие к неприятностям ближних. О казусе с профессором ботаники нас уведомляют как-то небрежно, хотя свободная композиция позволяет смягчить удар: ничего не стоит вместо «любовницы» поставить «охотницу» или «домработницу». В шести строфах песни идиллия советской жизни нарушается дважды: кроме профессорской неприятности мы узнаем еще о болезни "приемного сына" (чьего?) — "длинного двоечника".
Перечисления такого плана ведут к бесстрастной пейзажистике, к принятому в современном искусстве понятию "общего ландшафта". Это связано с безвременьем в смысле отсутствия исторической ретроспективы и перспективы. Подобное безвременье акцентирует визуальность, преимущественную наглядность окружающего, острый и внимательный, но не критический взгляд. Окружающее не плохо и не хорошо, не красиво и не безобразно — такие оценки предполагают довольно устойчивые моральные и эстетические критерии — окружающее просто наличествует. Известный современный теоретик и практик авангарда, австриец Ганс Карл Артманн так определяет ландшафт: "Мое представление о ландшафте: кочка, о которую я споткнулся, запах улицы ровно в полдень и не позднее; визг электропилы, услышанный за пропыленной шторой комнаты отеля; клочья пены, скользящие с моей пивной кружки в заросли крапивы".
Разорванные, фрагментарные импрессии.
Кстати говоря, Артманн в своей статье о ландшафте весьма восхищается путевым дневником знаменитого натуралиста Карла фон Линнея "Путешествие в Лапландию и Россию" (начало восемнадцатого века). Линней без всякого пафоса либо увлечения каталогизирует минералы, редкие слова, кухонные рецепты, описания тех или иных ремесел, растения, охотничьи обычаи, случаи людоедства, не делая никакой разницы между царствами природы, покроем одежды, нравами людей и медведей. Похвальная научная объективность. Человек в центре того, что его окружает, объекты равноценны. Релятивизм. "Мудрый смотрит на все одинаково, не видя разницы ни в чем" (Бхагавад-Гита). Да, мудрец, ученый, каталогизатор, неистовый сублиматор. Но артист! Человек, призванный направлять эмоциональную энергию, культивировать душу. Не влезает ли он в чужие владения со своей "художественной объективностью"? Но ведь искусство вообще, музыка в частности, равным образом подверглись массированной научной атаке. И касательно эмоциональной культуры: разве мало для этого дела создано произведений? Читайте Данте, изучайте Вермеера Дельфтского, слушайте Вагнера! Скажут: во-первых, это занятие для специалистов, а потом новая эпоха требует новых голосов. Может, соседу из песни и нравится Шенберг, а для нас эта додекафония как железом по стеклу. Уже более века между искусством и публикой образовался эмоциональный вакуум и авангардисты стараются интенсифицировать этот вакуум.
В таких рассуждениях есть элемент правды, и, надо признаться, теоретики искусства существенно запутали ситуацию. При всем уважении к Ортеге-и-Гассету надо признать: броское слово «дегуманизация» означающее, очевидно, нечто малоприятное, уводит в странную неразбериху. Относится ли это к художнику, желающему вытравить из себя все «человеческое», или к толпе, утратившей все «человеческое»? Ортега-и-Гассет, скорее, имеет в виду жестокий диссонанс между художником и толпой, все возрастающее непонимание, а не что-нибудь «вне-человеческое», "анти-человеческое". О дегуманизации легче говорить сейчас, в конце века, когда человеческая жизнь неуклонно вытесняется реальностью автоматической и "виртуальной".
Последнее обстоятельство существенно меняет отношения искусства и социума. Речь сейчас идет не о повышении эмоциональной культуры, а вообще о сохранении какой-то эмоциональности, которую возможно хотя бы условно признать человеческой. Ведь такие понятия, как сила, любовь, патриотизм, свобода, счастье, понятия, имеющие крайне широкий диапазон, сведены сейчас к полуподвальному примитивизму. Люди обращаются друг к другу на улице просто: «мужчина», "женщина", скоро, вероятно, дойдут и до более простых обращений. Помню, однажды видел Василия Шумова по телевизору — еще до его отъезда в Америку. Он исполнял песню под названием "Тургеневские женщины". После исполнения молодежная аудитория в телестудии не выказала ни малейшего интереса. Я спросил потом нашего общего знакомого насчет этой песни. "Лабуда какая-то, — ответствовал он, — я и забыл, что он там бормотал". Действительно, странная тема для русского рок-музыканта, когда по радио и телевидению преимущественно орут: "бухгалтер, милый мой бухгалтер", "ты — моя банька, я твой тазик" и т. п. Вероятно, публика пришла в ужас, представив вместо свободной герлы, упоенно трясущей эмерджентными прелестями, стыдливую (закомплексованную) барышню в корсете. Такие вот пироги, такая вот любовь. Глядя на Шумова в телевизоре, я подумал: наверное, весьма сложно быть в России (тогда еще советской) рок-музыкантом. Помимо всяких препятствий, о которых речь пойдет ниже, трудно жить среди «народа-богоносца» и обладать "загадочной русской душой". Когда распахнулся железный занавес, поток мировой глупости хлынул в Россию (как будто было мало своей, национальной). Среди прочих радостей, это усилило дикий национал-патриотизм, задавленный Советами: вспомнили русскую историю, блоковских «Скифов», тютчевскую "особенную стать". Вновь полетели панславянские лозунги о мессианской роли России, о «спасении» Европы от татаро-монголов и немецких нацистов. Русские почему-то никак не хотят примириться с тем, что они обычный европейский народ, не лучше и не хуже всех остальных. Нас отличают те же главные особенности: музыкальная система, свойственная белой цивилизации, и язык индо-европейской группы. Нам присущи любые европейские и «общечеловеческие» недостатки, и вовсе мы не «скифы» и не «азиаты». Грустно, когда поэты впадают в гражданственность и принимаются "глаголом жечь сердца людей". Их ли это дело? Гражданская поэзия — нелепый симбиоз индивида и социума, гротеск, монстр вроде химеры или киноцефала. Обычная демагогия — вещь малопочтенная, что же сказать о демагогии ритмичной, выраженной хорошим стихом? Это прекрасно — любить родную природу, чувствовать органическую связь с пространством и языком, но довольно-таки противно слушать, как возбужденные национал-патриоты или пьяные функционарии орут, что "умом Россию не понять". Умом действительно трудно понять свойственное многим русским людям пьянство, вялость, нерешительность, трусость, пресмыкание перед начальствующим хамьем, но ведь это и везде трудно понять. Что же касается дурацкого тщеславия, приписывания отечественным талантам любых изобретений и открытий — так эта черта присуща любому европейскому народу, не говоря об американцах. Конечно, никому не приходило в голову называть марконистов «поповцами», а единицу напряжения «петровкой», как это пытались делать у нас в двадцатые годы, но это, верно, объясняется тогдашним энтузиазмом. Тщеславие — первый и бесспорный признак глупости отдельного человека, всегда превращается у народа в "национальную гордость". Но в принципе глупость — факт интернациональный, "человеческий, слишком человеческий". Мы, русские, легко узнаем себя и в "Похвальном слове глупости" голландца Эразма, и в "Речи о глупости" австрийца Роберта Музиля. "То, что один человек говорить постесняется, сочтет глупым и неудобным, спокойно говорится от имени народа" (Роберт Музиль. Речь о глупости). Индивид и социум никогда не найдут компромисса, их позиции сугубо враждебны. Далее у Музиля: "Эти привилегии большого «мы» создают впечатление, что культурное развитие отдельной личности прямо пропорционально одичанию наций, государств и партий". Какие привилегии? Понятно, какие. На бесстыдство, наглость, бестактность, тупое высокомерие, сопровождаемые словечками типа «неотъемлемый», "божьей милостью", «бессмертный» и т. п. В песне Василия Шумова «Навсегда» с холодным достоинством поется следующее: