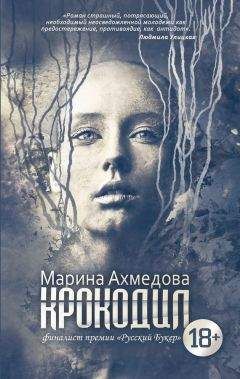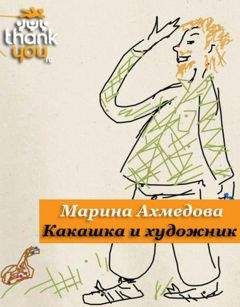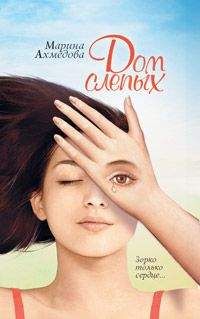Марина Ахмедова - Уроки украинского. От Майдана до Востока
Так же ловко — ставя на ступень металлический костыль и подтягивая за ним ногу — Богдан поднимается на второй этаж. В пролете на стене висит лист ватмана, на котором чернилами нарисована голова Тараса Шевченко в каракулевых папахе и воротнике. Из-под белых усов смотрят рисованные гроздья черного винограда. Под портретом четверостишье, выведенное аккуратной рукой — «У на оновленiй землi, врага не буде, супостата. А буде син i буде мати, У будуть люди на землi». Лестница выводит к стене, у которой раскатан отрез красной синтетической дорожки, на той горят четыре поминальные свечи, по бокам стоят вазы с лилиями. На стене — фотография мужчины, схваченная черной лентой. Под ней — плакат с желто-голубыми словами: «Вони загинули за нас».
— Это брат моей жены, — говорит Богдан. — Он — герой. Погиб на Майдане — пуля в голову. Звали Богданом. Заходь-заходь, — открывает передо мной двери класса.
Учительский стол покрыт скатертью с вышитыми цветочками. В углу — кафельная высокая печь. Ученики сидят за партами и стоят у доски. Последний урок только что закончился.
— Это мой седьмой класс, — говорит Богдан. — Я их классный руководитель. Сегодня на уроке истории мы проходили Петра Першего. Что мы еще проходили? — обращается он к ученикам.
— Битву под Полтавой, — отвечают те. — Як она була, як она закiнчилася. Як Петр Перший победил.
— А еще кого из русских правителей вы знаете?
— Путина… — отвечают семиклассницы, прячась за печку.
— Чего вы стесняетесь? — спрашивает Богдан. — Расскажите, как вы к Путину относитесь?
— Да ни як, — смеясь и не выглядывая из-за печки, отвечают они.
— Он — президент России, — говорит мальчик, сидящий за партой. — Плохой. Неправду говорит.
— А к России как относитесь? — спрашиваю я.
— Вы ненавидите Россию? — утяжеляет вопрос учитель.
— Да не, — отвечают ученики. — Зачем?
— Так они еще маленькие, чтоб политикой интересоваться, — говорит он. — Они в основном музыку слушают. Какую? — обращается с новым вопросом к ученикам. — Ра-сий-с‑ка-ю, — сам отвечает за них.
Выйдя из школы, Богдан идет в ту сторону, куда полчаса назад свернули лошадки. В весенней траве на обочине копошатся белые куры с ярко-красными гребешками. По левую сторону — дома: в один или два этажа.
— Я — фашист? Я? Фашист? — снова спрашивает себя он, и так доходит до стелы, стоящей на постаменте, а у ее подножия лежит плита с выгравированными фамилиями. В верхушке стелы — каменный венок. Ниже — надпись: «Вечная слава героям».
— А если я — фашист, почему у меня в селе стоит памятник советским воинам? — спрашивает Богдан. — Мой прадед — Герой Советского Союза, — растягивает он слова, от чего кажется, что это легкий ветерок, гуляющий в ветвях граба, утягивает их из его рта. — Его в сорок четвертом призвали, ему было девятнадцать лет. А тех, кто не хотел, сразу в бандеровцы записывали. Через две недели они уже были в бою, и половина из них была уничтожена. — Он направляет костыли в проход оградки, окружающей стелу. Карабкается ближе к плите. — Хамандяк В.П. — тысяча девятьсот первый — тысяча девятьсот сорок третий, — читает он. — Хамандяки — это мои родичи. Старшей сестры муж — из Хамандяков.
На плите, покрытой тонким слоем зеленого мха, оказывается еще три брата Хамандяка. Только один из них — тысяча девятьсот восьмого года рождения — дожил до сорок шестого года.
— А я, получается, фашист. — Богдан вытирает мокрый лоб. — У нас в Дрогобычском районе — тридцать восемь сел. В каждом есть такие памятники, кроме трех. В тех — сломали… Це герои, — говорит он, спускаясь вниз. — Вне зависимости от того, за кого загинули. Кратко: главное — что за родину воевали. За ро-ди-ну.
Сельский учитель отправляется дальше — вперед по дороге к деревянной церкви, крыша которой накрыта пластинами такой блестящей стали, что кажется, на ней плещется вода. Иконы на входе в церковь проложены вышитыми полотенцами. Холодное солнце высвечивает зеленые отметины на боках грабов. Из земли поднимаются ярко-белые кресты, на которых яркий свет стирает темные пятна зимних осадков. Икона на деревянном фасаде яркостью красок оттеняет бледность весны, входящей сейчас в село Летня, и подснежников, кое-где поднимающихся из травы.
— Живем бедно, — говорит Богдан. — А хотим жить лучше. Постоянной работы нет, в основном в селе живут за счет заработков за рубежом. Мы привыкли каждую копейку считать, но церковь люди построили сами — за свои деньги.
— Разве вы бедно живете? — спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. За церковной оградой виднеются двухэтажные дома — белый, желтый, розовый. В одном из дворов — высоким квадратом сложены кирпичи. Некоторые крыши краснеют черепицей.
— Да вы посмотрите на эти хаты! — опершись на костыль, Богдан поднимает другой и показывает в сторону домов, которые я сейчас разглядываю. — Разве это гарно? Разве это хорошо? С девяностых годов у нас строится новая школа и никак не могут закончить. У нас тут завод долотный работал. Его Газпром приватизировал и закрыл… А вы были в Европе? Мы с Европой сравниваем. Там — порядок. Как там хотим жить. Живите и вы краше. Чем краше наш сосед живет, тем и нам краше. Я — сельский учитель. Моя зарплата в перекладе на доллары — двести. Я хочу достойно жить и достойно зарабатывать.
Выйдя из церковной ограды и снова ступив на сельскую дорогу, Богдан своей бойкой ходьбой демонстрирует — и одной ногой человек может развивать большую скорость. На повороте его нагоняет невысокий человек. Они здороваются за руку, тот представляется мне Андреем, и дальше они идут вместе. Богдан — немного выбиваясь вперед.
— Я — фашист… — снова начинает Богдан. — Скажите, что мне должна сделать Донецкая область, чтобы я туда поехал и начал кого-то… резать? — Последнее слово он произносит почти по-соловьиному — нараспев. — Когда-то здесь так сложились обстоятельства — я могу, как историк, вам фактами и цифрами объяснить.
— Украинско-польская история очень кровавая, — хриплым голосом начинает Андрей и говорит очень быстро: — Резали по очереди — эти тех, те — этих. Обстоятельства были многослойными — людей насильно переводили в католическую веру, закрывали храмы, отменяли украинский язык. Но они же не просто так поднялись и начали резать — их тоже резали. Я — десятник. На Майдане я участвовал в уличных боях. Богдан погиб на моем посту. Он в тот день только в шесть утра приехал в Киев, а в половине девятого уже был убит.
— В селе улицу хотят назвать в его честь, — говорит учитель. — Но я против. Сколько денег уйдет на то, чтобы сменить таблички? А люди — бедные…
По квадрату земли, огороженному металлической сеткой, вокруг пластмассового таза с водой ходят куры, гуси и одна цесарка с крапчатой спиной. Хилый петух стоит, далеко вытянув шею, и время от времени надрывается удивленным криком, словно видит в траве нечто особенное. Лает коротколапая рыжая дворняга, выглядывая из-под двери сарая, в которой специально для нее квадратно вырезан уголок. Этот сарай стоит между двумя белеными низкими хатами. Двор засыпан мелким гравием. В палисаднике стоит белый колодец с ржавым колесом.
— Я еще не верил, когда мне позвонили и сказали, что Богдан убит, — говорит живой Богдан, — не хотел жене говорить. Но зашел во двор и услышал, как воет Барс, — он показывает на дворнягу. — А он никогда не выл. И тогда я понял у себя в душе — это стопроцентно уже, Богдан погиб… Это Богдана батькин дом, — он кивает на хату справа, — а это — материн, — кивает на хату слева. — Они были соседями, потом поженились. Теперь оба дома пустые, в них никто не живет.
Через двор спешит женщина в приталенном бежевом пальто старого фасона, в черных туфлях. На шее — прозрачный черный шарф. Она заходит в хату, где жила мать. Там в узкой прихожей на тумбе, прикрытой вышитым полотенцем, спит линяющий черный кот. За тумбой стоят мешки, набитые просом для птиц. У другой стены — рассохшийся диван, накрытый выцветшим килимом. Женщина вынимает из кармана листок бумаги, сложенный вчетверо. Разворачивает. На нем крупным почерком написано: «куры маленькие — 2, куры большие — 3, гуси — 3, индокачки — 6, цесарки — 1».
— Вот он ехал на Майдан, — говорит она, трогая покрасневший нос рукой, — а я говорю: «Ну, напиши ты мне, как их кормить». Он написал. У него хобби было такое — декоративные куры — для красы, для души. У него четыре петуха, вы можете себе представить? — плачет она. — Зачем в хозяйстве — четыре? Ему просто было жалко их. А резать кур он никогда не мог.
В комнате встречает та же фотография, что висит в школе на стене. Тут Богдан — сорокалетний мужчина в вышиванке, с уже образовавшимися залысинами по бокам русой головы — смотрит, подняв подбородок, с ковра. На столе перед ним — коробка с истрепанными общими тетрадями. Его сестра вынимает из нее корочку школьного аттестата.