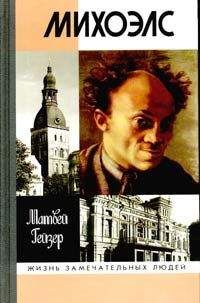Наталия Вовси — Михоэлс - Мой отец Соломон Михоэлс (Воспоминания о жизни и смерти)
В это время я обратила внимание на какого‑то юношу, который, слегка согнувшись, чтобы не мешать, пробирался по залу к эстраде. Сзади на его брюках аккуратно примостился кусочек торта с кремом. Мне это показалось смешно, я громко хихикнула, и тут же услышала сердитый голос отца: «Кому неинтересно, может выйти из зала!«Конечно, весь мой смех моментально испарился. После выступления я зашла за кулисы. Отец был окружен толпой. Заметив меня, он бросил строгий взгляд в мою сторону, и я осталась стоять в дверях. Наконец, мы отправились домой. В лифте папа сердито сопел, не глядя на меня. Тогда я рассказала как в зале наглядно продемонстрировалась его теория, и он расхохотался гораздо громче, чем это сделала я в зале.
Несмотря на разный подход к роли, разное понимание юмора, Зускин и Михоэлс были непревзойденными, неповторимыми партнерами.
Им обоим чрезвычайно посчастливилось. Зускин встретил партнера, для которого чувство второго человека было врожденным, а Михозлс нашел в Зускине продолжение своего брата, которого надо защищать, ограждать от грубого вмешательства жизни. И смерть их, как и жизнь, была подтверждением их судьбы» близнецов».
ДОМ НА СТАНКЕВИЧА
В доме на Станкевича Зускины жили на первом этаже. Впервые я попала к ним только в тридцать третьем году, до этого мое общение с актерами ограничивалось лишь стенами нашей квартиры. В перерыве между спектаклем и репетицией они приходили домой, и на кухне происходили» производственные совещания». Например, актер Миша Штейман, в молодости изучавший сапожное ремесло у своего отца, горячо доказывал Авреймеле Шидло, что тот не имеет права браться за роль, так как у автора сказано, что его герой говорит высоким голосом, тогда как у него, Шидло, голос чрезвычайно низкий. Лично я думаю, что идея пойти в актеры возникла у Шидло именно из‑за его удивительно глубокого мефистофельского баса. Правда, он обладал еще и высоким ростом, что, по его мнению, тоже способствовало сценической карьере.
Любое недоразумение между деятелями искусства вызывало немедленную реакцию их жен, которые защищали интересы своих мужей сковородочными дуэлями.
Шестнадцать примусов, споры жен, плач детей — все это сейчас, когда я вспоминаю, кажется мне адом из плохонькой комедии. Если кухня была адом, то квартирка за кухней, где жили мои родители, наверное была чистилищем. После бурной сцены на кухне, к моей маме забегали по очереди спорящие стороны, и каждая, поливая слезами и проклятиями противницу, доказывала свою правоту.
Мама с тихой спокойной улыбкой выслушивала их, и с удивительным тактом, не принимая ничьей стороны, пыталась примирить разбушевавшихся дам. А поздно ночью, когда папа возвращался после спектакля, она со смехом рассказывала ему о дневных сражениях.
Но и папа, в свою очередь, имел чем поделиться.
Он сидел у себя в кабинете, когда к нему явилась актриса Ида Абрагам, жена того самого актера, который сообщил в свое время папе об открытии еврейской студии. Мы в детстве звали ее» мегера». В кухню она не входила, а врывалась. Огромная, с копной мелко вьющихся седых волос, она вечно совала свой совиный нос в соседские кастрюли.
Вот так она ворвалась в кабинет Михоэлса и с порога потребовала, чтобы ей дали роль молоденькой девушки. Отец встал из‑за стола и спокойно предложил ей сесть.
— Нет! Этим вы меня не купите! Отвечайте, дадите вы мне роль Миреле или нет?!
— Но вы и так уже получили ведущую роль мачехи, — вежливо возразил Михозлс.
— Вы издеваетесь надо мной! — взревела» мегера» и, схватив со стола мраморную чернильницу, запустила ее в голову моему отцу.
— Итак, можно считать, что я сегодня заново родился, — закончил папа.
«Мегера» со своим мужем Ной Львовичем занимали комнату на нашем этаже. Детей у них не было, зато жила крохотная противная собачка по имени Гера, которую мы звали Гера Ноевна, за что нам влетало от родителей.
В этот период, к которому относятся мои самые ранние воспоминания, почти у всех актеров уже были дети, и длиннющий темный коридор нашей квартиры постоянно сотрясал детский рев. Ванная комната была одна на всех, и каждый день на ее облупившихся дверях вывешивалось объявление: «Сегодня с шести до семи купается Адик Штейман. С семи до восьми Толик Шидло» и так далее.
Но когда купание совпадало с периодом распределения ролей, а оно (распределение) не оправдывало надежд исполнителей, то в отведенное для Адика время, когда его, жирненького и ревущего, погружали в обшарпанную ванну, туда врывалась жена Шидло и, швырнув своего Толика в мыльную воду, принималась вытаскивать из нее мокрого скользкого Адика. Дамы, перепутав детей, старались ими же стукнуть друг друга. Причина спора всегда была творческая.
Но, несмотря на эти сложные взаимоотношения, жители нашего дома, на самом деле, были сплочены в одну большую семью, как писал об этом отец.
Если мама заболевала, а это случалось все чаще, нас с сестрой забирала к себе актриса Леля Ром, одна из лучших актрис первого поколения. Мягкая, с теплым юмором, она, как мне кажется, быстрее чем другие улавливала требования режиссера и доносила их до зрителя. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что из всех актрис именно с Лелей у папы был настоящий сценический контакт. Мне запомнились еврейские народные песенки, которые она напевала нам своим чудным глубоким голосом.
По утрам она выползала на кухню, лохматая в черном сатиновом халате, таща за руку свою маленькую сонную дочку. Поставив чайник на керосинку и захватив нас, она возвращалась в свою крохотную комнатку, где над диваном висел портрет красивой молодой женщины с букетиком цветов в пышных волосах. Пока мы слонялись по комнате, не зная чем бы заняться, Леля присаживалась к полукруглому столику красного дерева (доставшемуся по наследству от бывшего хозяина дома) перед висевшим на стене зеркалом и через несколько минут на моих глазах превращалась в красавицу с портрета.
Затем она уходила на репетицию. Слово» репетиция», как я уже говорила, для детей нашего дома было магическим, несмотря на то, что оно означало уход родителей из дома.
ТЕАТР. РАБОТА. КУЛИСЫ
Репетиция — работа. Спектакль — праздник. Так воспринимали мы, дети, жизнь взрослых. Утром на Малую Бронную приходили все актеры, независимо от того были они заняты в данном спектакле или нет. В темноте зала они рассаживались вокруг Грановского и начиналось действо — создание спектакля.
Грановский создавал рисунок спектакля. Он» дирижировал» ансамблем, разработку же мизансцен он поручал своему» концертмейстеру» — Михоэлсу.
Грановский был эстет, человек с европейским мышлением и образованием. Быт еврейского местечка, на котором строился, в основном, весь репертуар Госета, был ему совершенно чужд и непонятен. Что же касается Михоэлса, то, по словам Эфроса, он был» раввинноид» — по рождению хасид, а по опыту — выходец из той среды, о которой писали Шолом — Алейхем, Перец, Менделе. Поэтому, когда он приступал к репетициям, Алексей Михайлович бросал свою дирижерскую палочку и предоставлял ему полную самостоятельность.
Выпускали не больше трех спектаклей в год, а порой и меньше. Всех объединяло одно обшее стремление — создать интересный, своеобразный спектакль. И спектакли создавались такие, что несмотря на сугубо еврейский репертуар, они посещались не только евреями. Евреи же считали театр своим домом, синагогой, клубом, собственной резиденцией, местом встреч и воспоминаний, где они могли бы услышать любимые с детства песни, встретиться с друзьями, наконец, свободно, не понижая голос, поговорить на идише.
С каждой новой премьерой интерес к театру возрастал. У зрителей уже были любимые спектакли и любимые актеры. В театрах тех лет царила домашняя семейная атмосфера. У нас же, зал и кулисы часто составляли одно целое. Актеры, галдя и перебивая друг друга, толклись в дверях, ведущих в зрительный зал, а публика громко с ними переговаривалась. Так это выглядело в первое десятилетие театра. Потом, начиная с тридцатых годов, контакт и близость между людьми стали уже редкостью. Но к отцу все так же приходили в гримерную в антрактах поклонники и поклонницы, и все так же поодиночке заглядывали актеры.
Когда в дверях гримерной появлялся актер Луковский — изящный, небольшого роста человек с лицом и повадками парикмахера, исполнявший, главным образом, роли глухонемых и животных, папа с тревогой оглядывал сидящих. Было у Луковского одно удивительное свойство — на свою беду он умудрялся как‑то ненароком попасть собеседнику в самую больную точку.
Сидели мы как‑то в антракте за кулисами. В гримерной набилось полно народу, вдали от двери у окна пристроился инвалид на протезах, которые Луковский не заметил. Собственно, он вообще понятия не имел ни об этом человеке, ни, тем более, о его протезах. Забежав на минутку в папину гримерную, он галантно поцеловал дамам ручки, изысканно вежливо поклонился остальным и, обращаясь к папе, сказал: