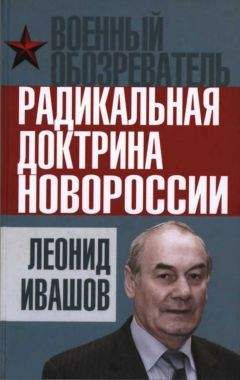Лев Троцкий - Проблемы культуры. Культура старого мира
Как русская интеллигенция от культурного аскетизма, эстетического нигилизма и «анти-буржуазных» традиций, подчас весьма наивных и неуклюжих, все время уверенно шла к обожанию мещанской культуры, – это очень интересная повесть. Мы, конечно, не собираемся здесь ее рассказывать. Наметим только два-три момента, которые помогут нам нынешние новейшие веяния вставить в историческую перспективу.
Прежде всего: теперь, когда исполнились многие времена и сроки, никто уж, надо надеяться, не станет сомневаться, что анти-индивидуалистические инстинкты и анти-буржуазные тенденции русской интеллигенции были не чем иным, как «болезнями» молодости. Немногочисленность интеллигенции, ее всесторонняя непристроенность, ее бесправность, ее бедность, все это заставляло ее держаться в куче, «общинно»; жестокая борьба за самосохранение выработала в ней настроение постоянного нравственного подъема и превратила ее в своеобразный мессианистический орден. Ее вражда к житейскому индивидуализму была в основе своей оборотной стороной ее бедности. Ни у кого ничего нет, все друг у друга занимают и тем живут: в этом старая тайна политической экономии радикальной русской интеллигенции. Но если ключ к этой теоретической загадке не найден до сих пор, то хозяйственный рост страны убивает самую загадку практически, порождая спрос на среднего интеллигента, повышая его заработок и – понижая моральный подъем. Конечно, связь между тем и другим не так проста, но она несомненна. Так или иначе нынешний интеллигент, особенно в крупных городах, со скептической усмешкой оборачивается на свое недавнее варварство. Его «личность» настолько самоопределилась, что не хочет уже расчесываться артельным гребешком. Теперь русского студента за границей почти не отличишь от немецкого: он одевается с такой же педантической тщательностью, давно не кокетничает косовороткой и всклокоченной шевелюрой, хорошо играет на бильярде, довольно прилежно занимается, чего не делал уже много лет, и щекочет в ресторанах кельнерш, чего прежде не смел делать открыто…
В прямой связи с былым культурным аскетизмом интеллигенции стоял ее эстетический нигилизм. Базаровщина не была внешней рисовкой, она имела глубокие социальные корни. Эта разночинная интеллигенция говорила эстетам 40-х годов: нам не до Сикстинской Мадонны[196] прежде всего потому, что у нас нет выкупных свидетельств[197]. Из духа противоречия и по закону последовательности, хорошо сшитые сапоги провозглашались уже принципиально выше «Короля Лира»{136}. Но этот на вид столь грубоватый нигилизм предполагал на самом деле огромный нравственный энтузиазм. «Отрицать» Шекспира значило попросту со стиснутыми зубами подавить в себе эстетические потребности, как и многие другие, – ибо не до того было: приходилось брать в руки метлу для очищения авгиевых конюшен, из которых еще к тому же не выведены были их обитатели… – Мы никого не собираемся звать назад (для этого мы слишком доверяем будущему!), но позволим себе все же заметить, что в традиционном аскетизме русской интеллигенции, при всей его внешней угловатости, было несравненно больше подлинной красоты, чем во всем нынешнем эстетическом присюсюкивании.
Наш жалконький «декаданс» 90-х годов – и был этим первым провозглашением не дворянского, а интеллигентско-мещанского эстетизма. Но как он был по первоначалу робок, даже труслив! Он едва смел заикаться об абсолютной самоцельности эстетического (главным образом эротического) «трепета» и своему протесту против «тенденциозности», т.-е. на деле против больших нравственно-политических обязательств, тяготевших на литературе, старался придать вид борьбы против морализующего народничества. Это помогло ему стать под защиту тогдашнего журнального марксизма, который сам по себе декадентов мало интересовал. Их, пожалуй, еще психологически связывало то, что оба провозглашали «новое слово» и оба были в меньшинстве. Петербургский журнал «Жизнь», комбинация из дешевого марксизма и дешевого эстетизма, на хорошей бумаге и за недорогую цену, явился плодом этой странной связи. Колоссальная, в 24 часа выросшая, популярность Горького – явление той же эпохи. По ходячему определению, босяк был символом бунта против мещанства. Неправда! Как раз наоборот! Для широких групп интеллигенции босяк оказался именно символом воспрянувшего мещанского индивидуализма. Долой ношу! Пора выпрямить хребет! Общество – лишь неуловимая абстракция. Я – это я! – На помощь пришел Ницше. На Западе он явился, как последнее, самое крайнее слово философского индивидуализма и потому – как отрицание и преодоление индивидуализма мещанского. У нас же Ницше заставили выполнять совсем другую работу: его лирическую философию разбили на осколки парадоксов и пустили их в оборот, как звонкую монету маленького претенциозного эгоизма…
Декадентство первого призыва, босячество, ницшеанство были сумбурным, романтическим, хаотическим взрывом нового интеллигентского самочувствия. Это – Wanderjahre (годы скитаний) индивидуализма. Следующий период – время «расцвета» идеалистической философии, т.-е. бледной популяризации Канта (вспомните «Проблемы идеализма»[198] – делает попытку полонить босячествующую индивидуальность философской лестью, объявив личность самоцелью и в то же время поставив ее под конвой «абсолютных» норм морали.
Это маленькое философское плутовство имеет своей задачей впрячь сбивающуюся на анархизм индивидуальность в оглобли мещанской культуры: «я – абсолютная самоцель, но надо мною (или во мне) живет категорический императив долга; поэтому я должен выполнять обязанности человека и гражданина». Подлинный Ницше был отрицанием и преодолением Канта и кантианцев, этих «пронырливых ходатаев своих предрассудков». Наш же кантианец явился для одоления ницшеанства, одолев – усыновил, усыновив – начал приспособлять его в «Освобождении» к грядущему парламентарному житию. В сущности этот индивидуализм первого периода, от Горького до… Канта, имеет психологически совершенно поверхностный характер. Все вращается в области эстетических предвосхищений и философских проекций. Индивидуализм еще не овладел волей, и потому радикальная душа на три четверти сохраняет свое старое содержание. Предстояла еще большая работа: перевести индивидуализм из философско-эстетического, т.-е. «праздничного» сознания в сферу повседневных переживаний и подчинить ему весь душевный обиход. Главную долю этой работы выполнили события последних трех лет. Они порвали многие лишь по традиции сохранившиеся связи, оголили многое, что оставалось прикрытым, углубили многое, что было лишь намечено, и состарили все классы общества на много десятилетий. Когда воды потопа схлынули, пришлось подвести итог огромной массе впечатлений, душевных приобретений и душевных утрат. Для интеллигенции это прежде всего значило сбросить с себя ветхого Адама старых аскетических привычек, радикального нигилизма и первобытных анти-мещанских инстинктов. Не философски сбросить, как до революции, а психологически, всем нутром.
Легче всего было подойти к этой задаче с той стороны, которая наименее защищена: со стороны пола. Так как история не брезгает ничем, то она привлекла к делу не только Арцыбашева, но и Кузьмина и даже Пильского[199]. Бескорыстное при всем своем демонизме «мне все позволено!» (из Ницше – по тексту «Жизни») превратилось в весьма практический императив «ловите миг удачи!». Открылась эпоха «анархизма плоти». Это – та же индивидуалистическая романтика, но перешедшая с разума на волю и в нашем грубом эмпирическом мире разрешившаяся «дорефами»[200] и лигами любви. Священное самоопределение упиралось в полицейский протокол, вследствие чего обуздание савраса половой индивидуальности становилось делом совершенно неотложным. И подобно тому как ницшеанская романтика была одновременно усыновлена и обуздана философским идеализмом, так теперь декадентско-эротический шабаш усыновляется и вместе дисциплинируется учением о религиозной ценности культуры. Половой индивидуализм во имя культуры вводится в пределы практического разума. Этот последний повторяет в сущности то же, что и категорический императив, но только в конкретных и житейски-черствых словах: «Анархизм плоти – это ваше безусловное право, в котором вам никто (кроме полиции) не может отказать. Но во имя культуры и заработка потрудитесь пожаловать в конторы, банки и редакции, – не всю же жизнь околачиваться в кабачке литературных гениев». Увы, этот голос неотразим! И господин интеллигент начинает чиститься и мыться, прячет Кузьмина в укромное место, убирает с письменного стола две-три слишком выразительные гравюры и вообще торопится принять благообразный вид.
Старый Гегель был прав, когда говорил, что развитие совершается путем непрерывных противоречий. Чтобы завоевать свое право на золотую середину, на культурную округленность воззрений, суждений и чувств, интеллигенции пришлось от своего традиционного аскетизма, от идейного послушничества, пройти чрез буйное помешательство распущенности, чрез белую горячку декадентства, чрез самоутверждение личности по образцам, извлеченным из Крафт-Эбинга[201]. Конечно, не все – и даже далеко не большая часть играли в последнем «откровении» индивидуализма активную роль; но ведь большинство интеллигенции во всех движениях только аплодирует, сочувствует, попустительствует или умывает руки. Так было и здесь, и это нисколько не помешает вписать санинщину, как главу, в историю русской интеллигенции.