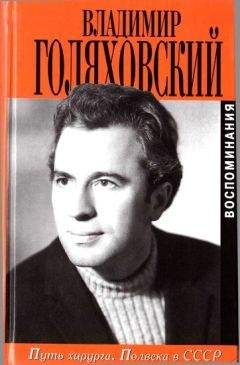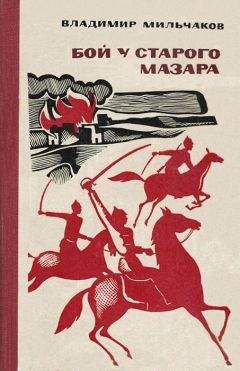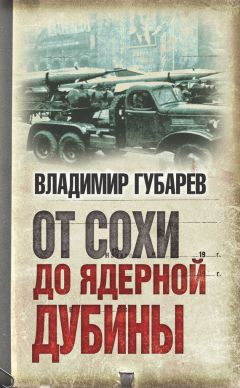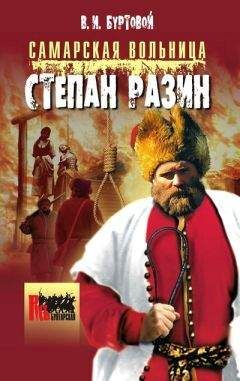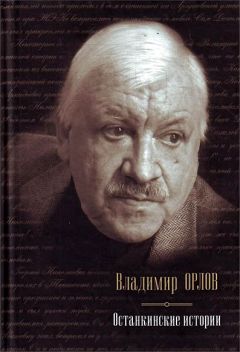Владимир Разин - В лабиринтах детектива
1. Нет цензуры — все дозволено. После долгого воздержания хочется остренького.
2. Как уже говорилось, ложной посылкой, что народ кинется и все раскупит.
3. И наконец, и это приходится с жалостью констатировать — слабостью наших писательских сил. Увы, многим авторам больше знакомы сексуальные моменты, нежели жизненные коллизии в правоохранительной и уголовной среде… Вот и пишут о том, что хорошо знают. Вот там, пожалуй, эксперты ошибок не найдут.
Ну, если нет у людей таланта, а писать хочется?! Многим, очень многим талант заменяет хлесткое перо…
В связи с вышесказанным любопытно обратиться к майскому номеру “Огонька” четырехлетней давности. В статье “Детектив Родины — Родина без детектива” лит. критики обсуждают извечную проблему — почему зарубежный крим лучше русского. Оказывается, западная книга лучше нашей по причинам географической, биологической и исторической, но продаются хуже. Почему? Потому что “в переводах английских книг и не встретишь фраз вроде “Он вошел в нее весь сразу…” после которых, — добавляет автор, — “начинаешь дико переживать за героев. А не забыл ли он помыть ноги?..” В тот, 1996 год критики писали: “Русский детектив только сейчас начинает осознавать свою важнейшую — эротическую функцию, выраженную в плохо запрятанном контексте…” Было это недавно, а как далеко мы ушли! Сегодня уже нет детектива, а эротические функции давно уже не прячутся в контекст, а выдаются непосредственно потребителю.
“Вор в законе локануться хочет…”
В начале этой главки уместно вспомнить слова П.Вайля и А.Гениса из книги “Американа”: “Только тогда приключенческий роман становится гениальным, когда автору удается создать адекватного жанру героя. Приключения сами по себе служат лишь фоном для раскрытия образа…” Герой должен быть сильным, хорошо подготовленным, беспощадным к противнику, и в то же время — добрым, нежным и любящим. Умение думать и логически мыслить в счет не идут… Изобразительные средства для этого у писателей есть — сюжет, описание самих героев, их взаимоотношений и поступков, их одежды и привычек. Иногда главный герой — весьма неординарная личность. Мы уже писали о герое Советского Союза и… главаре банды. А вот еще один пример. Юрий Федорович Милованов-Миловидов, герой нескольких романов о Командире Г.Миронова — княжеского роду, доктор наук с двумя высшими образованиями. Он советник правительства, прекрасный спортсмен. И в то же время… крупнейший в стране вор в законе, месть которого беспощадна… И этот человек, мыслящий вполне интеллигентно, изъясняется, в основном, по фене, на блатном жаргоне: “…Кто в помехе — на месер посадят”. Вообще, язык героев, да и самих писателей — авторов “Черного романа” удивляет своей ограниченностью и убогостью, засорен жаргонизмами и блатной лексикой. Дело доходит до того, что к некоторым романам прилагается словарик по блатной лексике. К примеру, книги Е.Монаха о братве обязательно сопровождаются такими “комментариями”.
Пожалуй, убогость лексики и стиля множества произведений можно определить несколькими комментариями:
1. Когда у автора не хватает сюжетных и прочих средств разъяснить в процессе действия суть происходящих событий, он пытается сделать это языком сухих лекций и длинных авторских отступлений. В.Безымянный в повести “За гранью риска” так описывает ситуацию, сложившуюся в стране: “А что же народ? Безмолвствует, как заведено испокон на Святой Руси, пережевывая изо дня в день подбрасываемую прессой мысль, что никакие перемены не предвидятся. Ведь нельзя дать то, чего нет, как и отобрать можно только у тех, кто имеет…” С.Гагарин в “приключенческом боевике” “Гитлер в нашем доме” так объясняет природу власти: “Власть, как и свобода, не имеет знака. Ее можно употребить во благо, ею можно пользоваться во имя зла. Властью обладают и Зодчие Мира, галактического Бога Добра…” Еще один образец лекции. На этот раз из романа А.Афанасьева “Московский душегуб”: “…Экономический распад и политическая нестабильность в южных республиках достигли такой стадии, что вчерашние мултимиллионеры вполне могли завтрашним утром проснуться нищими. Жесточайший передел собственности и судорожные попытки южных магнатов удержать захваченные плацдармы окрасились в пламенный цвет братоубийства…” Примеров, когда отсутствие действия заменяется длинным изложением разных событий и причин, их порождающих, заполняющим многие страницы — десятки.
2. Отсутствие хотя бы малейшего умения держать в динамике острый сюжет приводит к тому, что герои, которые меньше думают, чем действуют, меньше действуют, чем рассказывают, поясняют. Да, в классическом зарубежном детективе сыщики делятся с внимательными, но простоватыми слушателями своими мыслями. Но запоминающихся докторов Ватсонов, капитанов Гастингсов или Арчи Гудвинов отечественная литература пока не произвела. Поэтому многие герои — сыщики и прочие вещают прямо на публику, вновь заменяя действие словами. Более того, зачастую трудно уловить в этих словах мысль.
3. Многие “красивости” стиля вызваны, торопливостью, спешкой и нежеланием авторов тщательно шлифовать свои фразы. Отсюда и все эти бесчисленные “внешне невысокие девушки”, “прищуренные явной хитрецой взгляды”, “молодые организмы, подкрепленные (?) заботливым уходом Ольги”, “проницательные материнские сердца острыми ногтями”, “люди, поддернутые коростой черствости”, “дамы, которые в постели на порядок выше (кого?)” и т. д. и т. п.
Здесь уже счет примеров идет не на сотни, а на тысячи. И мы можем сказать, что прежняя остросюжетная литературная, может быть, была не такой острой по сюжету, но значительно чище по языку…
И хочется процитировать уже упоминавшуюся статью А.Курчаткина “Вперед к детективу и триллеру”, которая на наш взгляд довольно точно объясняет ситуацию: “Изящная и тонкая словесная ткань “высокой” литературы оказывается как бы занавесом над входом в подсознание, словесная ткань детектива, примитивная и грубая, как мешковина, вся в зияющих прорехах между толстыми нитями пропускает повествование в область подсознательного совершенно беспрепятственно. Не надо искать эпитетов и пускаться в хитроумные словесные ходы, описывая женщину с большим бюстом, нужно просто написать “грудная баба”. Не надо создавать зрительные образы охранников какого-нибудь современного “нового русского” — “амбалов” будет вполне достаточно, в крайнем случае можно добавить “бычьи шеи”.
Короче говоря, в современной литературе (не только в боевиках и детективах) произошла смена стиля. Из высокохудожественного литературного стиля мы постепенно окунулись в стиль газетный, когда объясняем читателям, что происходит в стране и за рубежом, а далее в стиль вульгаризма — жаргонный, в лучшем случае — разговорный, когда касается каких-то действий. Отсюда и “погоняла” — клички наших героев — такие, мягко говоря, экзотические: “Меченый”, “Крутой”, “Бешеный” и другие. Отсюда стиль общения, который нормальный читатель не всегда способен воспринять. Словом, крутые ребята-писатели объединились против лохов-читателей. А те хавают, что дают и базар фильтруют, не возникают.
Резюмируя все, сказанное выше, можно сказать словами Л.Гурского, что “удачливый урка, торжествующий победу над “ментами”, “фраерами” и “лохами”, выдвинулся на первый план”. В обществе популярен сегодня не борец с преступниками Лева Гуров, а бандит Женя Монах, быстрее которого выхватывать “шпалер” из наплечной кобуры никто не умеет…”
И сегодня мы имеем полное право говорить о восшествии уголовника на трон положительного героя, что само по себе таит значительную опасность, и не только для жанра остросюжетных произведений, но и для нравственного климата в обществе в целом. Ибо сегодня герои боевиков-триллеров не только в литературе правят бал, таких “крутых” героев все больше и больше в разных сферах нашей жизни. Они сегодня, увы, и в парламенте, и среди флагманов индустрии, и на дипломатической ниве, и в общественно-политической жизни… Достаточно взять свежую газету, чтобы убедиться в этом. И не совсем понятно — то ли литература плодит таких реальных героев, то ли наши писатели калькируют жизнь на страницах своих книг. А скорее всего, происходит взаимообогащение… Когда закончится этот процесс — вряд ли кто-нибудь скажет. Одни авторы считают, что это наступит, когда перемрут все “красно-коричневые”, а другие — мир наступит, когда “удушат последних буржуев”. Очевидно, это будет очень нескоро.
Глава 5. …Это дамское рукоделие… Женский роман (повесть)
в период развернутого строительства капитализма
Ретроперспектива.
Наше время породило такое экзотическое явление, как сказали бы некоторые критики, как женский детективный роман (или повесть). Экзотика здесь, видимо, заключается в том, что российские литературные (или окололитературные) дамы за всю историю существования российского уголовного романа практически ничего подобного не рождали. Кредо создания русского детектива, будь то классического, интеллектуального или крутого боевика, или психологически-криминального повествования всегда прочно принадлежало сильному полу.