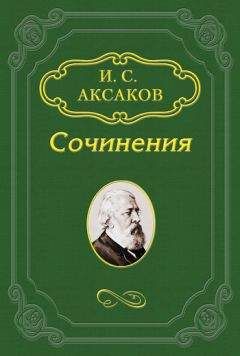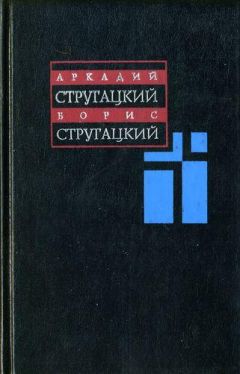Аркадий Стругацкий - Избранная публицистика
БОЛЬНОЙ ВОПРОС[46]
Бесполезные заметки
1Герой Ильфа и Петрова заявляет с законной гордостью: «Да, представьте себе, евреи у нас есть, а вопроса нету!..» Прошло полстолетия с небольшим, и мы вдруг с некоторой даже оторопью обнаруживаем, что евреев у нас, можно сказать, почти уже и нет, а Вопрос — вот он, пожалуйста, сколько угодно, и с любыми оттенками…
Вот уже несколько лет мне хочется написать об этом, хотя, клянусь, я вполне сознаю полную бесполезность текстов подобного рода, даже если распространятся они многомиллионными тиражами и подписаны будут именами, на порядок значительнее и весомее моего.
Для меня национальность — это язык плюс культура (включая традиции, обычаи, историческую память). Разумеется, так называемая «кровь», то есть национальный генотип, тоже играет известную роль, определяя какие-то чисто внешние физические признаки (рост, вес, цвет волос, форму носа) и отчасти даже темперамент. Но это все «вторичные» признаки. И если вы возьмете младенца-бушмена из тропического леса Экваториальной Африки и отдадите его в семью русского колхозника, проживающего в деревне Большое Лядино, то вырастет у вас там коротконогий и короткошеий, кучерявый, кособрюхий мужичонка, дикого и даже страшноватого вида — черный какой-то, глаза буравчики, лицевой угол, как у неандертальца, но во всех остальных отношениях — нормальный мужик: пьющий, как все, как все матерящийся, как все — семейный, как все неприхотливый и терпеливый. Ну, может быть, чрезмерно вспыльчивый, сварливый и драчливый — да с кем не бывает? Ну, характер у человека такой, чего вы к нему привязались!..
А если возьмете вы младенца из семьи этакого русоголового ария, сызмальства презирающего жидовню и в анкетах пишущего — в пятом пункте — великоросс, возьмете вы его младенца-сыночка и поместите его в еврейское местечко прошлого века, где-нибудь под Житомиром, то и вырастет там — horribile dictu! — этакий аид, белокурый, конечно, и голубоглазый, но с омерзительно-комическим этим акцентом, с жестикуляци— ей этой анекдотической, с пейсами (с русыми пейсами!), с характернейшими повадками мелкого торговца, с цепкой неотвязностью репейника и совершенно невыносимым высокомерием местечкового мудреца… Ужас! Представить же себе страшно!
Поэтому все эти разговоры о Крови, о Роде, о Духе — высокопарны и бессмысленны. Они были бы смешны, если бы не стояла за ними угрюмая программа по превращению общества в этакий племенной завод, где каждая вязка-случка тщательно запланирована, а результаты незапланированных контактов выбраковываются твердой и безжалостной рукой.
Для истинного националиста важнее всего — детали, формальности, признаки, форма уха вашего прадедушки, архивная запись… Он обожает говорить о беззаветной любви к своему народу, но это какая-то странная и страшноватая любовь, плавно и нечувствительно переходящая в ненависть к народу чужому. И если «патриотизм — это последнее прибежище негодяя», то национализм — его первое и излюбленное прибежище.
Почему-то мне кажется, что я имею право считать себя беспристрастным судьей во всех этих вопросах и высказываться без риска быть обвиненным в юдофильстве-жидоедстве, русофобстве-русолюбстве. Во-первых, я никогда не замечал себя в грехе национализма. А во-вторых…
Отец мой, Стругацкий Натан Залманович, — стопроцентный еврей, сын Херсонского еврея-адвоката и еврейки, домашней хозяйки. Мать, Литвинчева Александра Ивановна, — дочь стопроцентного русского мужика, выбившегося в прасолы, и русской женщины — домашней, разумеется, хозяйки.
Согласно «Директивам по обращению с евреями на территории рейхскомиссариата Остланд» (опирающимся на так называемые Нюренбергские законы): «Евреем считается тот, кто происходит, по меньшей мере, от трех дедушек или бабушек, которые в расовом отношении являются чистокровными евреями. Евреем считается также тот, кто происходит от одного или двух дедушек или бабушек, чистокровных евреев…»
Директивы составлены не вполне ясно: зачем нужна первая из приведенных формул, если имеет место вторая? Впрочем, в тех же Директивах абзацем ниже сказано более чем определенно: «В случае сомнения гебитскомиссар или штадскомиссар решает, кто является евреем, по своему усмотрению, опираясь на эти директивы».
Поскольку среди четырех моих дедушек-бабушек двое являются «в расовом отношении чистокровными евреями», я по законам Третьего Райха являюсь евреем (со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Однако, не могу не заметить, что по законам еврейского государства Израиль, евреем может считаться только тот человек, мать которого является еврейкой. Так что, с точки зрения законопослушного израильтянина, я — типичный гой, то есть кто угодно, но не еврей.
Разумеется, возникшее противоречие является противоречием искусственным, надуманным, чисто интеллигентским — любой наш советский штадскомиссар, не говоря уже о гебитскомиссаре, разрешит его в мгновение ока (и уже разрешал, надо думать, неоднократно, о чем речь еще впереди). Нет, я привел все эти национал-юридические изыскания отнюдь не для того, чтобы посеять сомнения, а только лишь, чтобы обосновать свою позицию человека, способного, вроде бы, на объективный (взвешенный) подход к делу.
Впервые я, мальчик домашний и в значительной степени мамочкин сынок, встретился с еврейским вопросом, оказавшись учеником первого класса ленинградской школы.
Совершенно не помню, от кого именно, но от кого-то из моих новых знакомых я впервые услышал тогда слово «жид». Надо сказать, что школа научила меня многим новым словам (например, «б…», «е…», «п…»), и слово «жид» не особенно выделялось среди них: все это были слова гадкие, тайные и обозначающие нечто дурное. Если бы тогда кто-нибудь спросил меня, кто это такой — жид, я без запинки ответил бы, что это такой очень нехороший человек.
Крайняя наивность и плохая осведомленность моя сыграли со мною однажды дурную, помнится, шутку. Как-то вечером (было это, скорее всего, зимой 1940/41 года) я, будучи мальчиком семи лет и по обыкновению изнемогая от скуки, просился в комнату моего старшего брата, девятиклассника, где всегда и все было необыкновенно и интересно. То ли старший брат мой, девятиклассник, был занят, то ли настроение у него было несоответствующее, но он меня к себе не впускал, и я уныло торчал в темной кухне, время от времени тихонько царапая заветную дверь и поднывая: «Аркашенька, можно?..» Одни лишь свирепые междометия были мне ответом.
И вот, когда от тоски и безнадежности иссякли во мне последние запасы надежды и почтительности, я вдруг, неожиданно для себя, выкрикнул в пространство: «У-у, жид!..»
Что собственно, хотел я этим сказать? Какую идею выразить? Какие обуревавшие меня чувства? Не знаю.
За дверью воцарилась страшная, мертвенная тишина. Я обмер. Я понимал, что сказал нечто ужасное, и все чувства во мне оцепенели. Дверь распахнулась. На пороге стоял Старший Брат…
Обуявший меня ужас отшиб у меня память. Я запомнил лишь одну фразу: «…только фашисты могут говорить это слово!!!» — но, как видите, я запомнил эту фразу на всю жизнь.
(Наверное, именно после этого инцидента произошло запомнившееся мне внутрисемейное обсуждение вопроса: откуда произошло слово «жид» и как оно стало быть. В обсуждении принимала участие вся семья, но запомнилось мне почему-то лишь мнение бабушки, папиной мамы, которая сказала: «Это потому, что евреи ожидают пришествие мессии…» Вот странная гипотеза! — сказал бы я сейчас. Но почему я запомнил именно и только ее? Наверное, потому, что она показалась мне самой понятной.)
И это все о еврейском вопросе, что запомнил довоенный школьник первого класса! Полагаю, названный вопрос не стоял тогда сколько-нибудь остро — по крайней мере в тех кругах социума, где главной проблемой было скрыть от мамы «плохо» за контрольную по чистописанию. Подобно бессмертному Оське из «Кондуита и Швамбрании», мальчик-первоклассник еще не знал, что он, оказывается, еврей.
Он узнал об этом всего лишь год спустя.
Время действия — сентябрь 1942. Место действия — средняя школа районного центра Ташла Чкаловской области. Из-за войны и блокады мальчик пропустил второй класс и, оказавшись в эвакуации, был отдан сразу в третий. Он впервые пришел в эту школу и, как и всякий новичок, встречен был радостным воем и клекотом свирепо-веселой толпы новых своих однокашников.
Ташла — гигантское село, несколько сотен мазанок, распространившихся вдоль речки Ташолки, по правому ее берегу. Половина населения — ссыльно-переселенцы из кулаков, другая половина — татары. Нравы — патриархальные. Любовь к советской власти такова, что в начале Сталинградской битвы, когда чашки весов застыли в томительной неопределенности, в дверях райсовета, по слухам, установлен был, в качестве предостережения, пулемет «максим» — рылом на площадь.