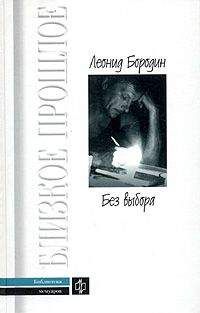Леонид Бородин - Без выбора: Автобиографическое повествование
Когда же мальчишка пытается что-то сказать или намекнуть на возможность свободы, я почти искренно «взрываюсь», я почти кричу ему (кричать больно), что да, хочу проститься с близкими, но умолять не собираюсь, не дождется… и вообще — что ему здесь надо?
Он явно удовлетворен моим душевным сломом и не может скрыть удовлетворения, хотя на физиономии весьма правдоподобная маска сочувствия и озабоченности. Сегодня он мне больше не нужен. Да и я ему тоже. Он уходит. И когда лязгает замок дальней двери, я уже хожу по камере и читаю шепотом (вслух больновато) стих Гумилёва, который будто бы написан им в камере перед расстрелом. Доказательств тому нет, и если подделка, то талантливая.
В час вечерний, в час заката
Колесницею крылатой
Проплывает Петроград…
…Я не плачу, я спокоен,
Я поэт, моряк и воин.
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным!
Знаю, крови сгустком черным
За свободу я плачу.
За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу.
И сегодня, город мой,
В час вечерний, в час заката
Колесницею крылатой
Унеси меня домой…
Как и прежде, как в молодости, Гумилёв действует на меня гипнотически. Мне не холодно, не больно, не одиноко. И я до ужина топаю по камере и шепотом читаю Гумилёва — все, что помню.
Конечно, было бы неправдой сказать, что весь месяц «на больнице» прошел в этаком душевном мажоре. Всякое бывало, но об этом всяком ни вспоминать, ни рассказывать не хочется.
«Опекун», знать, получил карт-бланш на мою разработку у начальства. Через десять дней по прибытии «на больницу» вызвали к врачу. Женщина лет сорока… Явно из гулаговской медицинской системы… Ни одного лишнего вопроса… И чего только она не проделывала с моим проклятым горлом! Потом, когда сидела в стороне и долго писала что-то, я ждал, когда расплавленный свинец, будто залитый в глотку, остынет, чтобы хотя бы слюну сглотнуть. Затем резюме типичным «медментовским» голосом: «Запущенная хроническая ангина… редкий вариант — бестемпературный… мягкое горло…» Далее — рецепты. А то я не знал, что о худшем врачи не говорят. Но фокус был в том, что я никогда, даже в самом раннем детстве, не болел ни ангиной, ни гриппом, у меня никогда не бывало повышенной температуры. Знать, как закалился, купаясь с десяти лет в Байкале от льда до льда, так и дожил до сорока с лишним лет, не узнав, что такое простуда.
Оговорюсь: и по сей день, богатый всякими-разными болячками, температуры не знаю…
Потому ее слова о хронической ангине тогда только кривую усмешку вызвали на моей и без того перекошенной физиономии.
В итоге сказала, что в течение недели я должен проделывать то-то и то-то, в следующий вторник она еще приедет и посмотрит.
Через двадцать лет припоминая свое тогдашнее психическое состояние, ей-богу, удивляюсь, сколь причудлива природа человеческого сознания. После медицинского осмотра у меня не только не появилось надежды на лучший вариант, но я будто бы даже и не хотел его, потому что он тогда поломал бы таким волевым напряжением выстроенный план моего ухода. Я уже свыкся с мыслью о том, что не придется мне отсиживать этот практически пожизненный срок. Никакой ссылки, никаких надзоров, ни нищеты, ни бездомья… А главное — за время подготовки к уходу я начисто утратил то самое чувство безысходности, с которым безуспешно сражалась воля с момента приговора. И что ж? Все заново? Ну уж нет!
Заявившийся назавтра «опекун» был шокирован моим поведением. Он боялся, что я, получив «добро» на жизнь, попросту пошлю его подальше. Я же твердил только одно — свидание! Медицинскую проблему я категорически отказался обсуждать. Обман с медицинской точки зрения, может быть, и правомерен, но для меня оскорбителен. Я требую свидания.
Мальчишка, оправившись от изумления, быстро переориентировался, «сообразил», что, подыгрывая мне, не теряет шанса на «обработку». Он, дескать, уверен, что никакого рака нет, и врач так сказала, хотя, конечно, и врачи, случается, ошибаются, но через неделю, когда она снова приедет, отремонтируют рентгеновский аппарат, и тогда уж все стопроцентно…
У него была неделя на то, чтобы меня прогнуть. У меня была неделя, чтобы вытребовать свидание, — это в том случае, если мне жить…
Жить! Проговорить в мыслях это слово я мог, в душу его пропустить — нет!
Я позволил «опекуну» произнести длинный монолог о преимуществе жизни на воле, о пустяках и формальностях, которые от меня требуются, чтобы вместо свидания с семьей — жить с ней, о бессмысленности и бесполезности противостояния власти, которая навсегда, навечно в соответствии со всеми историческими законами, какие только известны человечеству.
Когда он выдохся, я ответил коротко и жестко: «Сначала свидание, потом разговоры». И услышал в ответ: «Да будет вам свидание! Будет. Москва дала добро. Жене уже сообщили». Я не верил своим ушам. Неужели пойдут и на это? Да зачем я им нужен? Я никто. Ноль! За мной ни партии, ни движения. На Западе мое имя ничего не значит. Одно дело, когда досрочно выпускали по соглашению Синявского — так он почти знамя… И потом… Они меня знают. Если бы даже я и дал слабину и прогнулся, так не надолго. Искупая слабину, наверняка пошел бы на что-нибудь чрезвычайное. «Крутость», с каковой я провел свой первый срок, в значительной мере объяснялась тем, что на суде по делу Социал-христианского союза я, как и все, признал себя виновным, — карцерами и Владимирской тюрьмой искупал…
Нет, отпускать меня не в их планах. В планах обыкновенное жульничество: сломать, прежде чем сдохну. Рентгеновский аппарат сломался… Все ясно. Играем!
Нынче думаю, что ошибался. Я ведь не знал, что во Франции в популярнейшем издательстве «Галлимар» уже вышли четыре мои книги, несколько книг в Англии, Германии и Италии. Что с подачи Георгия Владимова я «вписан» в ПЕН-клубы{47} Англии и Франции, что от французского ПЕНа — премия, что на радио «Свобода» читаются мои книги…
Освободившись в 1987-м, от множества людей слышал, что познакомились с моими писаниями по «Свободе». И даже сам в том же году слушал чтение по «Свободе» книги «Год чуда и печали» в прекрасном музыкальном сопровождении.
Шла, как нынче принято говорить, «раскрутка». И после моего освобождения она еще продолжалась. Лишь после моей поездки в США выяснилось, что «ошибочка вышла». И Запад начисто забыл о моем существовании. Любопытно, что первыми почуяли ошибку «раскрутки» шведы. Закупив у издательства «Посев» четыре мои книги для перевода, от перевода, однако, воздержались, а потом и отказались вовсе, когда выяснилось подлинное «мурло» автора закупленных писаний.
Я же до момента освобождения и долгое время после писательство свое рассматривал как забаву, точнее, как хобби, как способ временно отвлекаться от чего-то первично важного, и лишь когда выяснилось, что ничего этого «важного» не существует, то есть что в «смуте» мне делать нечего и что всякое участие в политическом процессе, процессе распада — а это почти десятилетие — аморально и противно душе, тогда только я несколько по-иному взглянул на свое пристрастие к писательству.
* * *На фоне беды, надвигающейся на Россию, когда б знать о том, сколь ничтожными, мелочными и эгоистичными смотрелись бы мои проблемы весны 1986-го. Да они и были таковыми.
Поскольку не драмой завершилось, а фарсом. Свидания я добился.
И «опекуну»-мальчишке выказал фигу… Буквально ошарашенный моим коварством, он, заверивший начальство в успехе «разработки», выходя из камеры, так хлопнул дверью, что из дверного проема вывалился кусок штукатурки. Но именно в те дни мне уже было не до него. Вторая встреча с врачом закончилась душевным стрессом. Верил, не верил — и сейчас толком не пойму и не помню, помню смятение, необъяснимое отчаяние и нехорошее, нездоровое возбуждение, всплески беспредметной ярости и наоборот — несколькочасовой апатии, когда сидел на шконке не только без движений, но, кажется, даже и без мыслей вовсе. Помню, вскидывался вдруг и произносил вслух: «Опять жить». И начинал топать по камере туда-сюда… Какое счастье, что был тогда один! Что никто не видел этой позорной ломки…
Самое странное, что далее — ямы в памяти. Не помню этапа назад в зону, общение с сокамерниками — сплошные обрывки… Но именно в это время я начал писать «Царицу смуты» и первую главу, что без малейших изменений через восемь лет вошла в повесть, отправил в письме жене, оно передо мной, это письмо, и я тщетно пытаюсь понять, почему это вдруг тема народной смуты четырехсотлетней давности вдруг овладела сознанием узника, не имевшего ни крохи информации о надвигающихся событиях… А ведь овладела настолько, что как только прекратил писать — далее все в памяти отчетливо и подетально. Вот только не помню, почему прекратил писать. Возможно, из страха, что отберут, что пропадет…