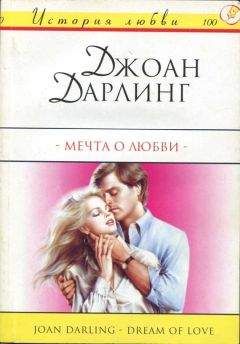Борис Полевой - В конце концов
И вот с высоты нашего военно-транспортного самолета, где мы, корреспонденты, сидели меж ящиков и тюков с каким-то судейским, возвращаемым на родину добром, я как бы окидывал все эти девять месяцев, начиная с того дня, когда Георгий Димитров говорил свои пророческие слова о предстоящем процессе, до финала этого процесса, о котором рассказывал нам великий и непобедимый Виктор Темин.
И вдруг мне вспомнился Сталинград. Мерзлый подвал какого-то сотрясаемого разрывами дома, на участке, обороняемом гвардейской дивизией под командованием сталинградского героя Александра Родимцева. Конец ноября. Из-за Волги дует острый северный ветер — сиверко. Стены подвала заиндевели и белеют во тьме гроздьями инея. Из дальнего угла слышатся стоны раненых. Их некуда отсюда увозить. По Волге густо идет сало, и редко какому катеру удается пробиться сквозь эту движущуюся ледяную кашу. Лежу в углу на каком-то тюфяке и, натягивая на себя полушубок, пытаюсь уснуть. Пытаюсь — и не могу. Очень уж тихо. А тишина на этой узкой полоске земли, между рекой и немецкими передовыми, где ухо привыкает к почти непрерывной стрельбе, — плохой, тревожный признак.
Лежу и вижу поодаль стол. Массивный письменный стол на тигровых лапах, который неведомо как попал в этот подвал. Коптит «катюша» — светильник, сделанный из сплющенного снаряда. У стола — худой человек с угловатым, нездорового цвета лицом, с большими глазами, глубоко запавшими в темные провалы орбит. Не снимая полушубка, он что-то старательно пишет. Он пишет в красных книжечках, лежащих перед ним двумя неровными стопками. Напишет и переложит из одной стопки в другую. Потом, сложив ладони, дует в них, грея окоченевшие пальцы. И опять за работу. Я знаю, что это секретарь парткомиссии — болезненный и какой-то очень штатский на вид человек.
Вот он окончил работу. Собрал свои книжечки. Хлопнул крышкой железного сундучка. Мягко ступая в валенках, подходит ближе ко мне и, поправив на мне съехавший полушубок, простуженным голосом спрашивает:
— Не спите? Да, что-то тихо сегодня… Затихли, значит, чего-нибудь затевают.
Некоторое время сидит молча. Сухо покашливает. У него что-то с легкими, он об этом никому не рассказывает, но по тому, как кашляя, он старательно отворачивается, а отхаркивать мокроту уходит в дальний угол подвала, все понимают, что это «что-то» очень серьезное. Прокашлявшись, он возвращается ко мне.
— За эту неделю выбыло из партии, вернее, партия потеряла в нашем полку одиннадцать коммунистов. А приняли знаете сколько? Шестнадцать. Одиннадцать и шестнадцать — вот какой счет. — Он опять надсадно закашлялся, встал, вышел из подвала, сплюнул за дверью и вернулся на прежнее место. — Я ведь по гражданской своей профессии — историк. И вот теперь частенько думаю, сколько разных партий существовало с античных времен. Росли, крепли, множились, когда волна удачи и конъюнктуры несла их вверх, когда принадлежность к ним сулила карьеру и земные блага. Но стоило судьбе повернуться к ним, к этим партиям, спиной, они сразу же начинали хиреть, таять и вовсе разбегались. Сколько такого помнит история!
А у нас, впервые, с тех пор как мир существует, это я вам как историк говорю, у нас — наоборот… Вот сейчас — уж куда тяжелее: Ленинград в блокаде от голода вымирает, немцы вот они, у самого волжского берега, да где, в центре России. Половину нашей промышленности забрали, шесть республик под ними, голод, холод, бесприютица, а партия вон она как растет. Одиннадцать с честью погибли в бою, а шестнадцать подали заявления. Как? А? Об этих цифрах не говорить, а песни петь надо…
И вот на пути из Нюрнберга в Москву я вспомнил этот давнишний разговор в подвале разрушенного сталинградского дома в самые тяжкие дни битвы за этот город. Рельефно так представился мне и этот заиндевелый, продуваемый сиверко подвал, и стоны раненых, и хриплый, глухой голос секретаря парткомиссии, и худое, болезненно румяное лицо его с большими горящими глазами. Вспомнилось, как бились мы, советские люди, за нашу землю, за наши идеалы, как беды всякий раз сплачивали нас вокруг нашей партии, как перед решающим смертным боем солдаты подавали заявления: «Идем в атаку, считайте меня коммунистом», как с кличем в честь своей партии грудью загораживали амбразуры дзотов и как юная московская школьница с петлей на шее бросала вооруженным врагам слова ненависти и презрения, слова веры в победу своего народа.
А Нюрнберг? Среди всех восемнадцати подсудимых, представляющих высшую иерархию национал-социализма, не нашлось ни одного, который бы сказал хоть одно-единственное слово в защиту идей, во имя которых они истребили миллионы людей и опалили войной всю Западную Европу. Даже в последних словах своих, когда в затылок им уже дышала смерть, они лгали, изворачивались, представляли себя обманутыми, и партия их, перед силой которой еще недавно трепетали соседние народы, исчезла, рассеялась, как ядовитый туман. Во всяком случае сейчас, в эти дни, хотя прав, конечно, Ярослав Галан, сказавший мне как-то, что злое семя может и десятки лет пролежать в земле, ожидая подходящей погоды.
Так, по пути в Москву, раздумывая и сопоставляя, я все больше понимал, как же был прав Георгий Димитров, этот гордый сокол коммунистического мира, заранее предвидя и ход и результат процесса. Действительно, ворон ворону глаз не выклевал. Финансовый гений Гитлера — Ялмар Шахт, проложивший ему путь к власти, крупнейший международный шпион Франц фон Папен, ближайший соратник доктора Геббельса Ганс Фриче, ведавший околпачиванием масс в газетах и по радио, — все-таки на свободе, спасенные судьями империалистических держав. Но сам процесс, его законы, его логика, его материалы и выводы разоблачили всю низость, всю гнусную и страшную сущность идей нацизма, прозвучал грозным предостережением человечеству…
Эти последние записи я делаю дома. В соседней комнате стучат каблучки жены. Моя мама убеждает внучку есть кашу, чтобы вырасти красивой и здоровой. Сын сидит на противоположном конце обеденного стола и, должно быть, копируя меня, что-то пишет в тетрадке огромными буквами. Впервые за пять лет на мне не сапоги, а домашние туфли на меху, которые, как некий символ, как семейный талисман, жена возила с собою даже в эвакуацию. С улицы доносится дребезг московского трамвая, скрежет его колес на повороте. За окном Москва, моя Москва. И все, что я видел и слышал за эти последние девять месяцев в далеком немецком городе, представляется отсюда страшным кошмаром, который хочется поскорее забыть. А забывать его нельзя.
Нет, нельзя.
Нюрнберг. 1945 — 1946 гг. Москва. 1967 — 1968 гг.
Примечания
[1] Я не говорю по-английски.
[2] Рабочие с Востока (нем.).
[3] Служанка, горничная (нем.).
[4] Надзиратель в блоке бараков концлагеря.
[5] Так назывались здесь печи, в которых сжигали трупы
[6] Эту книгу доктор Джон Джильберт написал и напечатал («Nurenberq Diary». New-Jork, 1947). Это интересная книга, и, обрабатывая свои дневники для печати, я имел возможность сверять с ней некоторые свои репортерские записи.
[7] Роскошный ресторан в центре Парижа, существующий и сейчас
[8] Ярослав Галан выполнил свое намерение. В трагедии «Под золотым орлом», в пьесе «Любовь на рассвете», в книге «Отец тьмы» он разоблачал контрреволюционное отребье, но сам трагически погиб от руки бандитов-националистов, зарубленный топором в своем кабинете