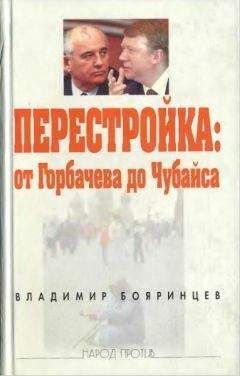Соломон Волков - Диалоги с Иосифом Бродским
Чем хуже этот век предшествующих?
Разве Тем, что в чаду печали и тревог Он к самой черной прикоснулся язве, Но исцелить ее не мог.
Конечно, под этим стихотворением стоит дата — 1919 год. Но на самом деле невозможно сказать — когда это написано. Это тот язык и стиль, который, в общем-то, не претерпевает существенного развития. Это на все времена.
СВ: Но ведь Ахматова всегда говорила, что хронология в ее стихах очень важна. И, я помню, сердилась на иностранные издания своих стихов, в которых даты под стихами опускались: «Они хотят все это выдать за недавно написанное».
ИБ: Конечно, сердилась! Но она, как вы справедливо заметили, еще играла и во всякие дополнительные игры. Когда к ней, к примеру, приходила какая-нибудь девушка-исследователь и начинался спор. Потому что Ахматова какое-нибудь свое стихотворение относила к более раннему времени. Так что исследователь при составлении академического свода стихов Ахматовой столкнется с дополнительным трудом. Ему придется критически проверить даты, проставленные автором.
СВ: А вы сами, Иосиф, не собираетесь ли разобраться когда-нибудь в своих ранних стихах? И решить твердо — что из них следует печатать, а что — нет?
ИБ: Вы знаете, Соломон, наверное, это надо сделать… Но руки не доходят. Или, вернее, голова. И вообще, все эти ранние стихи — они находятся в Париже. Здесь, в Нью-Йорке, у меня их просто нет.
СВ: Ахматова говорила, что проза всегда казалась ей «и тайной и соблазном». Она повторяла: «Я с самого начала все знала про стихи — я никогда ничего не знала о прозе». А вы что думаете о прозе Ахматовой? Замечу, кстати, что в одном из писем к вам она изумительно описывает путешествие по Франции в 1965 году: какой она увидела ее из окон вагона…
ИБ: Прозу Ахматовой я обожаю! Ей я это сказал первой, но потом продолжал утверждать всю жизнь: лучшая русская проза в XX веке написана поэтами. Ну, за исключением, быть может, Платонова. Но это другие дела. И при том, что прозы у Ахматовой написано мало, то, что существует — это совершенно замечательно: пушкинские штудии, воспоминания о Модильяни и Мандельштаме, мемуарные записи. И помимо содержания, их интерес — в совершенно замечательной стилистике. По ясности — это образцовая русская проза, настоящий кларизм. У нее просто нет лишних слов.
СВ: Но Ахматова также очень мучилась, работая над своей прозой. Она писала: «В приближении к ней чудилось кощунство, или это означало редкое для меня душевное равновесие». Ахматова добавляла, что она прозу «боялась или ненавидела». И помню, в разговорах с ней все время проскальзывала какая-то безумная амбивалентность к собственным прозаическим опытам.
ИБ: Амбивалентность в связи с чем?
СВ: Мне кажется, Ахматова боялась собственной идеи: написать большую автобиографическую книгу. И она никак не могла нащупать для этой планируемой книги нужную форму. Похожее приключилось с Юрием Олешей, который долго искал форму для своей последней книги автобиографической прозы. Искал в невероятных мучениях, подходил к этому то с одной стороны, то с другой. А кончилось тем, что после его смерти нашли груду разрозненных фрагментов. Эту груду другие люди попытались собрать в единое целое. И я помню, как в середине шестидесятых годов появилась книга Олеши, изданная посмертно, под названием «Ни дня без строчки». В предисловии к ней Виктор Шкловский попытался объявить эту книгу большой творческой удачей Олеши. Но книги-то не было; все это так и осталось грудой фрагментов, хоть и блистательных. Производивших на самом деле довольно грустное впечатление. Не кажется ли вам, что нечто похожее произошло с Ахматовой? Книги-то нет, есть собрание замечательных отрывков, которые можно тасовать как угодно. Что уже и происходит, кстати. Скажем, исследователи собирают в одно целое те или иные варианты воспоминаний Ахматовой о Мандельштаме. И ругаются по этому поводу между собой… Разве не так?
ИБ: До известной степени так, если оценивать ситуацию постфактум. Но на самом деле фрагментарность — это совершенно естественный принцип, присутствующий в сознании любого поэта. Это принцип коллажа или монтажа, если угодно. Протяженная форма — это то, чего поэт просто по своему темпераменту не выносит. Поэту с протяженной формой совладать труднее всего. И это не потому, что мы люди короткого дыхания, а потому, что в поэтическом бизнесе принцип конденсации — чрезвычайно важный. И если ты начинаешь писать подобной конденсированной фразой, то все равно, как ни крути, получается коротко.
СВ: А как же «Доктор Живаго» Пастернака?
ИБ: Можно только удивляться Борису Леонидовичу! Ну что это за идея для поэта — писать именно роман: с введением, первой частью, второй, всеми этими описаниями, колоссальными абзацами… Ахматовой же, напротив, вовсе не хотелось становиться романистом. Она все-таки была именно поэт, причем старой школы. Настоящий поэт прозу пишет по обязанности, по необходимости. И единственное, что Ахматова писала по внутреннему побуждению
— это пушкинские штудии.
СВ: Но ведь и эти отрывки и фрагменты, которые должны были составить мемуарную книгу, разве они не вырывались из Ахматовой именно по внутреннему побуждению?
ИБ: Ну понятно. Но вы должны учесть, Соломон, насколько этим было опасно заниматься. Заниматься воспоминаниями любого рода было в Советском Союзе опасно, а для Ахматовой — вдвойне. Власти очень боялись того, что она могла бы вспомнить. А помнила Ахматова абсолютно все. И это была та поразительная черта, которая Ахматову во многом характеризовала. Потому что она не только помнила — кто, когда и с кем, скажем, встретился. Но она помнила дни недели, время дня. Сколько раз я на это нарывался, и это всегда меня ошеломляло. Потому что это не воспитание другое, а просто другая биология. Которая другим даже могла показаться патологией. Здесь, на Западе, я знаю только одного человека, который в этом смысле похож на Ахматову: это Исайя Берлин. Вот только, может быть, с датами у него не очень, да? А так — все совпадает.
СВ: Да, Ахматова в разговоре всегда протягивала параллели — что случилось пятьдесят лет назад, двадцать лет, десять. Разговаривая с ней, ты и сам вовлекался в эту игру — переклички событий, бесконечные круглые даты…
ИБ: Ну да! И это то, чего ни один исследователь ее творчества просечь не может, потому что мы — люди уже другой культуры, у нас этой способности к соединению событий во времени и пространстве уже нет. Потому что подобный настрой возможен при определенной степени — не то чтобы покоя, но другого жизненного ритма. Это не та насыщенность событиями, явлениями и прочим, которая обрушилась на нас. И я думаю, что в России дореволюционной, и даже после всей этой замечательной революции, этот другой ритм все же до известной степени определял бытие человека. Потому что подобный ритм закладывается другой эпохой — концом ХIХ века, началом двадцатого.
СВ: Когда Ахматова говорила о своей будущей мемуарной книге, то называла ее двоюродной сестрой «Охранной грамоты» Пастернака и «Шума времени» Мандельштама. То есть она в какой-то степени ориентировалась на эти две книги, к тому времени уже классические — если не по официальной шкале, то среди интеллигенции. А как бы вы сравнили мемуарную прозу Ахматовой с «Охранной грамотой» или «Шумом времени»?
ИБ: Обе эти книжки — и Пастернака, и Мандельштама — совершенно замечательные. Просто мне «Шум времени» дороже, да? Но если взглянуть на них издали — а издали мы и смотрим — то между этими двумя книгами есть даже нечто общее в фактуре, в том, как используются детали, как строится фраза. И я думаю, что если Ахматова называла свою планируемую книгу «двоюродной сестрой» этих двух, то она на самом-то деле указывала на истинное положение вещей. На то, что происходило в ее авторском сознании. Потому что я думаю, что таким образом она писать прозу была не в состоянии. Ее проза ни в коей мере не могла быть подобной ни мандельштамовской, ни пастернаковской. И она осознавала это. Она осознавала преимущество их прозы и, видимо, до известной степени ее гипнотизировала эта перспектива — что так она не напишет.
СВ: Да, Ахматова так и писала о своей книге: «Боюсь, что по сравнению со своими роскошными кузинами она будет казаться замарашкой, простушкой, золушкой…»
ИБ: И вот эта боязнь ее до известной степени и останавливала. Тормозила ее работу. Потому что Ахматова совершенно феноменально работала с деталями, но опять-таки, она была прежде всего поэт — в том смысле, что каждую деталь она подавала бы в одной фразе. В то время как Пастернак или Мандельштам, когда они натыкаются на деталь или на метафору, то ее, как правило, разворачивают. Как розу. В их творчестве ты все время ощущаешь центробежную силу. Которая присутствует в стихотворении, когда оно как бы само себя разгоняет.