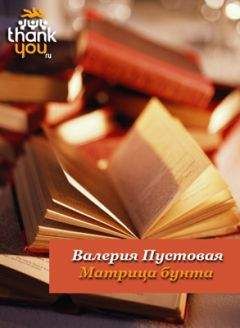Великая легкость. Очерки культурного движения - Пустовая Валерия Ефимовна
Как свидетельствует РИА Новости, «Дом, в котором…» – первая книга Петросян, создававшаяся в течение 10 лет. Как свидетельствует сама книга, даже если она останется единственным творением писательницы – она заняла ей место в литературе.
Ктулху в небесах [95]
Монотонный, убаюкивающий роман Владимира Данихнова «Колыбельная» составлен из микровзрывов – ощущение такое, будто автор навевает сны и одновременно зло подщипывает. Это внутреннее, поэтическое напряжение не дает отключиться, подтягивая криминальный нерв сюжета. В «южной столице» происходит серия нападений на маленьких девочек – расследовать преступления берутся профессиональный сыщик, его недотепа-напарник, отошедший от дел маньяк и вереница рядовых граждан.
Антитриллер, конечно. На это указывают не только откровенно пародийные беседы о ходе расследования, когда сыщик больше отбивается от киношных ожиданий напарника, чем продвигает его к разгадке. Главное несовпадение с жанром – в деперсонализации зла. Хотя весь роман автор умело подкидывает нам варианты, кто, логически, имел возможности и мотивы для серийных убийств, ход романа противоположен ходу расследования и ведет к обвинению в соборном соучастии.
Это путь от человека до твари, которым проходят все персонажи, включая анонимных пользователей Интернета, окрестивших зловещего маньяка ником Молния. Персонажей в романе много, они цепляются один за другого, выпрастываются из чужих рукавов, взгорбливаются на чьи-то шеи, всовываясь в повествование всегда неожиданно, бочком или мыском, благодаря чему высвечиваются скрытые связи между далекими, параллельными, разрозненными будто людьми – ткется вязкая сеть сновидения, ширится, заливая абзац за абзацем, русло всеобщей тоски. Пока сыщик горделиво воюет с блистательно увертливым преступником, автор сослеживает людей заурядных, непричастных, раскрывая их мелкие тайны, уличая в стыдных страхах, докапываясь до корней того безразличного уныния, в условиях которого только и могла взрасти и прославиться смертоносная Тень.
Триллерный саспенс представляется легким выходом из заевшей серости. Которая у Данихнова не имеет ничего общего с социально обусловленной нищетой и неволей. Он исследует логику негативных, темных реакций на мир, когда из повышенной чуткости, приподнятой мечты, воодушевленной надежды вырастают малодушие и жестокость. Все заблуждения и проступки героев романа чем-то высоким и человечным оправданы, но сами служат антидоводом к Канту, отменяющим звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас. И когда очередную жертву Молнии спасет случайный прохожий, автор не даст нам забыть о том, что герой еще «некоторое время выбирал, кого бы из них пырнуть» и наконец решил, что по крупному мужику «меньше шансов промахнуться». Девочка спасена, но сработала тут не воля Божья, не механически перевесившая на весах судьбы справедливость. Девочку спас черный уставший бог, глотающий звезды, – есть в романе и такой образ, некто вроде Ктулху в небесах. Этот бог Данихнова испытывает героев, превозмогающих границы человечности во имя своего страха смерти.
Роман не задевал бы так глубоко, если бы парадоксальную связанность чуткости с дикостью автор не сделал принципом повествования. Текст написан как будто нейтральным, суховатым тоном, но отдельные фразы в нем перенапряжены от нестыковки друг с другом.
Конфуз фавна [96]
Частота появления рассказов Александра Снегирёва в литературных журналах любого критика наведет на соблазн состроить из разрозненных публикаций «снегиревский текст». Но тексты обобщению сопротивляются, являя каждый раз непохожую, своенравную стилистику, от блогерского зубоскальства до чеховского, глубоко залегшего драматизма. Впрочем, принципиальные, опознаваемые мотивы прозы Снегирева и по данной журнальной сборке можно определить. И это не только его навязчивое пристрастие к персонажам-блондинкам, как можно подумать.
Говорят, что Снегирев – мастер вертеть запретными темами. Пафос этого утверждения хочется снизить: запретного, по-настоящему выдвинувшегося за грань, тут не бывает. В том и тонкость этой прозы, что автор умеет удерживать в рамках нормы самые дикие, вычурные сюжеты – такие как, в нашей подборке, страсть престарелой дамы к юному постояльцу или деревенская юдофобия. Снегирев трансформирует перверсию в неловкость, намеренно сдувая напряжение.
Большие темы, притчевые сюжеты в этих рассказах остужаются, съеживаясь. Пародийной задаче служит в том числе эротическое начало, а обобщенно говоря – само пространство частной жизни, частного суждения, которое автор не покидает ни на минуту. Здесь нет ничего сверхличного: гражданского, национального. И потому диспут гостей о конце Европы скучно жуется под остросюжетный флирт с хозяйкой дома, а при помощи советской истории обосновывается психологическая зажатость генеральского отпрыска: жалея дефицитной сметаны из госпайка, мать запрещала ему звать в дом троглодитов-друзей.
Государственная история со сметаной – все равно что нательный крестик и засос, рифмующиеся в одном абзаце, или крещенская прорубь и угги, соседствующие в другом, или высокое наслаждение музыкой, переживаемое рассказчиком в туалете, или выползшая к нему, глубоко ушедшему в себя, напуганная сороконожка, или «внутренняя сосредоточенность» таинственного ресторанного гостя, из-за которого гибнет некалиброванная двухсотграммовая рыбка – на самом деле не важная, намеренно пустая деталь, работающая на пародийный демонизм. В рассказах изрядно смехотворных, отвлекающих деталей – тумблеров, перещелкивающих напряжение. Но коллекция их еще не составляет сюжет. Который в рассказах Снегирева легко не заметить, потому что его он, в отличие от нелепых трюков, намечает одной-двумя фразами, брошенными без комментариев, вскользь.
Развернутый финальный абзац рассказа «Как же ее звали?..» поэтому следует счесть досадным просчетом автора. Патетические всхлипы рассказчика о том, что никто не любил его «просто так», кроме престарелой выдумщицы и полузабытой девушки, которую он сам сопроводил на аборт, входят в противоречие с выдержанным вкусом этой прозы. Развязка рассказа свершилась страницей выше – когда герой, избавив от бремени надоевшую подружку, узнает о роковой тайне квартирной хозяйки, так и не ставшей матерью.
Такое впечатление, что проза Снегирева стилистически – преувеличенным, местами козлоногим эротизмом и травестийным, местами площадным шутовством – работает на игнорирование сокровенной травмы, бегство от существа события. В этом смысле из представленной журнальной подборки выбивается рассказ «Бетон», где совершается прямое восхождение, от которого не отвлекает даже непременно ввернутая сюда влюбленная в героя обладательница волосатых ног и сомнительного звания «внучки третьего зама». Кроме нее, нелепых вывертышей в рассказе нет, и тем мощнее эффект выбранного героем способа протеста против произвола властей, а то и самой жизни. Залить бетоном дом, обреченный под снос, – конечно, подвиг пародийный, а все же плотное, удержанное от вихляний и дешевых контрастов письмо, как и приподнятый, овеянный волшебством финал рассказа препятствуют смеховому сливу темы. В «Бетоне» какой-то другой, редкий пока, но многообещающий Снегирев, чья отзывчивость к болевому развернулась в скорое повествовательное течение, а чуткость к нелепому и вычурному осела в крупинках метафор.
Установленное родство [97]
Роман Анастасии Ермаковой «Пластилин» – живое переживание остроактуальной темы, снабженное модным набором эпиграфов, равняющих цитату из Гамсуна и анонимные реплики с интернет-форума. Перед нами отчетливо публицистический роман – того рода, который не прочитать нельзя. Слишком непознанной, не вскрытой, нарывной темой остается вопрос о судьбе сирот и системе усыновления в России. Слишком ценны о ней любые свидетельства, скудны возможности, непоправимы конфликты, чтобы при чтении такого романа думать еще о том, как он написан.