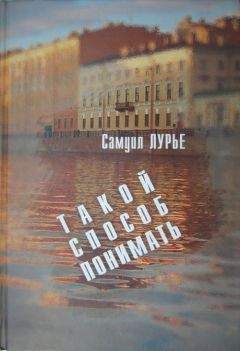Самуил Лурье - Железный бульвар
А Виктор Жирмунский дал формулу: поэзия поэзии. Теперешние ученые отмахиваются: поверхностно! — а по-моему, верно: главное действие Мандельштама — возведение в степень. Он едва ли не каждому слову возвращает ценность метафоры.
Извлекает из слова корень — скажем, квадратный, — и возводит его, скажем, в куб.
И стихотворение — как произведение метафор (не сумма!) — становится метафорой другого порядка, высшего.
Превращается в метафору какого-то множества — или единства, — мерцающего в ней, как Метафора всех метафор.
ЧастностиДамы влюблялись в него не пылко и ненадолго: слишком был безобидный, совсем без демонизма. Разве что капризный, а в сущности — смешно сказать о поэте — кроткий. Вообще почти смешной: телосложение пингвина, походка, как у Чарли Чаплина. Повадка щегла — лицо донельзя человеческое — и божественный ум! Ни одна не бывала с ним счастлива, — но так весело не было ни с кем.
Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль! —
Цветаева ему писала.
И самая красивая из всех говаривала впоследствии, за бездной лет и потерь:
— Очень весело болтали, и непонятно, почему получилась такая трагедия в стихах, — теперь я с грустью понимаю его жизнь и весело — наше короткое знакомство… Я рада, что послужила темой для стихов. Он был хороший человек, добрый… А что стихи будто бы холодные — неправда; по-моему, горячие, как мало у кого…
Ахматова с ним смеялась, как с близнецом; только ему и прощала, что — умней: ведь зато человеческого опыта у него не было никакого; две старые девы — литература и музыка — воспитали подкидыша, как могли, — вот и не стал взрослым.
«Мне часто приходилось, — вспоминает Пунин, — присутствовать при разговоре Мандельштама с Ахматовой: это было блестящее собеседование, вызывавшее во мне восхищение и зависть. Они могли говорить часами, может быть, даже не говорили ничего замечательного, но это была подлинно поэтическая игра в таких напряжениях, которые мне были совершенно недоступны. Почему-то все более или менее близко знавшие Мандельштама, звали его „Оськой“, а между тем он был обидчив и торжествен, торжественность, пожалуй, была самой характерной чертой его духовного строя, этот маленький ликующий еврей был величествен — как фуга».
Он же, Пунин, вот что утверждает о родстве Мандельштама с Ахматовой: «Это тоже было существо более совершенное, чем люди».
Говорят, Гумилев умел дружить с Мандельштамом; но большинству мужчин с ним было тяжело: высокомерный, самовлюбленный, совершенно ничего не умел — только сочинять, — ничего другого и не делал, — вечно требовал в долг без отдачи, — вздорный, нелепый, вульгарный, — вообще непонятно было, кто дал ему такую власть над русской речью. Как сболтнул сгоряча последний поклонник-завистник: — Черти, что ли, помогают Мандельштаму?
…И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.
Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо…
Все же в некоторых случаях вкус бывает неумолим, как совесть: заслушивались. Сам Александр Блок оттаивал: «Постепенно привыкаешь, „жидочек“ прячется, виден артист».
Мандельштам, и дожив до седых волос, не догадывался, что это первое, что думает о нем и друг и враг: вот еврей. В роковом самозабвении полагал, будто все — пусть многие понаслышке — знают, кто он такой и что сделал в русской литературе, — а стало быть (вторая ошибка!) — чуть ли не за приятный долг почитают — да хоть и скрепя сердце, все равно обязаны — доставлять ему средства к жизни. Хуже того: чувствуя себя носителем смысла времени, убежден был (ошибка третья!), что с его мнениями — равно и сомнениями — кто-кто, а вершители исторических судеб страны не могут не считаться. («Мы живем, под собою не чуя страны…» — чем не доклад, воображаемый, на предстоявшем съезде — как его там — победителей, что ли?) Не желал притвориться мертвым — вел себя как действующий чемпион — или как тот, кто необходим, потому что говорит за всех; искренне верил, что полезен, и долго будет советскому народу любезен, — вот и дошел до того, что стал призывать милость к падшим.
Понятно, что его принимали за городского сумасшедшего.
Хотя нельзя теперь не признать: кое-что Мандельштам предвидел. О ленинградских мертвецах сказал за несколько лет до начала Большого террора; что Кремль — кузница казней, — накануне…
Он с болезненным ужасом ненавидел злодейство. Впадал в панику от физического контакта с насильником. Не мог дышать воздухом, в котором кого-нибудь убивают.
Развивалась астма. Он стремительно старел. Боялся одиночества и пространства. Но по-прежнему обожал Время, особенно — настоящее. И приставал к нему с нежностями, остротами, попреками… Пока не надоел.
Причина смертиПетр Павленко в марте 1938 года писал куда следует — в Союз писателей то есть:
«Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет даже того главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, — нет темперамента, нет веры в свою страну…»
Надежный писатель был Павленко, проверенный. Один его приятель и соавтор — некто Пильняк — уже лежал, где заслужил, с пулей в черепе, а теперь Петру Андреевичу отдали на перевоспитание кинорежиссера Эйзенштейна, и они вместе сочиняли сценарий про Александра Невского. А Мандельштама Павленко давно уже, с 1934 года, презирал — потому что один следователь на Лубянке по старой дружбе позволял Петру Андреевичу тайно присутствовать на допросах — в укромном каком-нибудь уголке: за портьерой либо в шкафу, — чтобы набраться художественных впечатлений, — так вот, Мандельштам, когда его взяли за стихи про товарища Сталина — что будто бы его пальцы, как черви, жирны и он якобы играет услугами полулюдей и так далее, — держался на допросах жалко и был смешон: брюки без ремня спадают, ботинки без шнурков не держатся, и сам дрожит всем телом. Петр Андреевич любил тогда, — хоть и не положено, — за рюмкой кахетинского в кругу товарищей по перу и некоторых существ противоположного пола изобразить истерики и обмороки Мандельштама.
И все смеялись.
Но теперь, в 1938-м, Павленко было не до шуток. Щекотливейшее поручение он получил: этому недобитку (которого товарищ Сталин пощадил, как якобы мастера, — поверив заступникам, ныне разоблаченным) — поставить окончательный диагноз. У Мандельштама — кто мог вообразить! — хватило наглости вернуться из нетей, объявиться в Москве и — мало того — всучить Союзу писателей пук стихотворений: дескать, здравствуйте, советские писатели, я снова с вами! верней, наконец-то я ваш! пишу совершенно так, как нужно, только лучше, чем вы, — извольте же напечатать — и прописка столичная нужна, — и вообще носите на руках, ликуя… Следовало немедля его сплавить, и было совершенно ясно — куда, однако резолюция 1934 года — «изолировать, но сохранить» — вроде бы подразумевала, что великий вождь в то время еще надеялся: эта жалкая личность успеет, раз уж настолько вникла в ремесло, хоть отчасти искупить свою вину, создав произведения, блеском ей соразмерные. Стало быть, приходилось намекнуть — не кому-нибудь, а Кормчему: просчетец, мол, с вашей стороны, недосмотр! Но, само собой, не в том смысле, что кто-нибудь гениальней вас понимает литературу, — а что подло воспользовался вашим великодушием гнусный классовый враг — бандит Бухарин, на днях как раз приговоренный к высшей мере.
И Петр Андреевич намекнуть взялся. Написал, что и новые стихи Мандельштама темны и холодны, — а вдобавок пахнут Пастернаком (помимо того, что каламбур вышел удачный, он еще и утешал, напоминая: незаменимых у нас нет). И для примера выписал строфу: добирайтесь, мол, до смысла сами, а я затрудняюсь:
Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей — скалы подспорье и пособье?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?
Поскольку это единственная цитата в его доносе, — а этот донос (или экспертное заключение, — как вам угодно) убедил Ежова и Сталина, что с Мандельштамом пора кончать, — давайте ненадолго займемся литературоведением. Вчитаемся вместе с ними в четыре роковые строки.
И нам придется признать, что будущий сталинский четырежды лауреат не оплошал — указал на главный, неизлечимый, нестерпимый порок: просто-напросто не умеет пресловутый мастер воспеть полной грудью, без задней мысли жилплощадь повешенных.