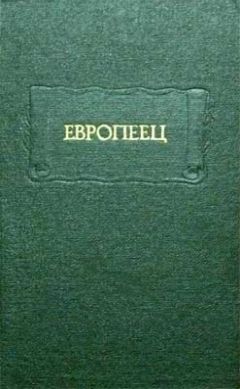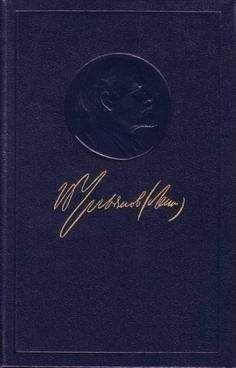Иван Киреевский - Европеец
«Обозрение русской словесности за 1829 год» вызвало развернутый и сочувственный отзыв Пушкина, причем он не только одобрил статью в целом, но и солидаризировался со многими конкретными оценками современных литературных явлений, увиденными им у Киреевского. Обратим в этой связи внимание на один особенно показательный момент.
В заключительной части своей статьи, подводя читателя к выводу, что «у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы», Киреевский писал: «…если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: "Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Европою?" — что будем отвечать ему?
Мы укажем ему на "Историю российского государства"; мы представим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жуковского и Пушкина, несколько басен Крылова, несколько сцен из Фонвизина и Грибоедова…»
Пушкин обратил внимание на этот абзац и выписал его в своей рецензии. А когда в «Опровержениях на критики» он сам задался вопросом, какие произведения «наша словесность с гордостию может выставить перед Европою», его список оказался разительно сходен с тем, который составил Киреевский: «…Историю Карамзина, несколько од Державина, басен Крылова, пэан 12 года и несколько цветов северной элегической поэзии».
«Обозрение русской словесности за 1829 год» со всей определенностью выявило ту позицию, которую занял Киреевский в литературной борьбе конца 1820-х — начала 1830-х годов, и стало, по выражению Максимовича, «надежным задатком будущей деятельности» критика. «Оно возбудило многие толки в журналах; более всех огорчился, разумеется, Булгарин, бывший тогда особенным голосом, невыгодным для нашей литературы, отозвавшимся невыгодно и на Киреевском…» Булгарин, впрочем, не только «огорчился», но и стал распускать клеветнические слухи, вынудившее Жуковского 30 марта 1830 г. обратиться к царю и искать у него заступничества. «…Булгарин везде расславляет, — писал Жуковский, — будто бы Киреевский написал ко мне какое-то либеральное письмо, которое известно и правительству… Этим людям для удовлетворения их злобы никакие способы не страшны. Киреевский не писал ко мне никакого письма, за его правила я отвечаю; но клевета распущена; может быть, сочинено и письмо, и тайный вред мне сделан».
Статья в «Деннице» и вызванная ею полемика в немалой степени содействовали тому, что Киреевский стал центром того дружеского и литературного круга, в котором мы видим многих будущих сотрудников «Европейца». «В это время, — пишет Максимович, — Киреевский сошелся дружно с Е. А. Баратынским, и в частых беседах с ним утончал и поверял свой эстетический анализ для литературной критики, которая была его первым призванием», а когда Языков, переехав в Москву, «водворился возле Елагиных, с которыми сжился как родной», «произошел новый прилив поэзии в дому Елагиных. Киреевский, преданный в это время изучению Мольера и всех вообще комиков, сочинял вместе с Языковым комедии и разные драматические прологи для своих домашних представлений, которыми несколько лет разнообразились их вечера».
Эти «вечера, собиравшиеся по воскресеньям, остались памятными для всех, принимавших в них участие. Здесь под исход 1829 года бывал Пушкин, который по возвращении из Закавказской экспедиции, пожал дружескую руку своему критику — Киреевскому. Здесь постоянно являлись и давний друг Пушкина П. Я. Чедаев, с своею Западною проповедью, и А. С. Хомяков, осыпавший его стрелами своего Восточного остромыслия. Тогда завязывался тот спорный вопрос об отношении Русского просвещения к Европейскому, который потом для Киреевского был одною из главных задач его умственной деятельности и в разрешении которой он дошел до своих великих выводов в области умозрения».
«Тогда-то, — продолжает мемуарист, — развивалась вся тонкость и живость его диалектики, необычайная способность вносить примирительное начало в разноречащие мнения, находить, что в них истинного и приводить их к окончательным заключениям. Твоей же мысли дает он завершающее дополнение, а ее выражению — новое, последнее слово. К этой тихой, мирной беседе весьма шел и самый говор его, как будто нашептывающий в твою душу сердечные тайны. В такие трехголосные беседы обращались обыкновенно воскресные вечера по полуночи в кабинете Киреевского, и расходились они уже при утреннем солнце».
В начале 1830 г. Киреевский уехал за границу. Эта поездка осуществила его давние, выношенные планы. Еще семью годами ранее он писал А. А. Елагину: «То, об чем я хочу просить вас, не минутный каприз воображения, но вещь обдуманная и зрелая, которая, по твердому моему убеждению, необходима для моего счастия, для моей образованности и пр. к пр. Эта вещь — чужие краи». Киреевский горячо убеждает отчима в своей готовности вести самый экономный образ жизни: «Кроме университета и профессоров, не буду видеть никого и ничего; если будет нужно, то я могу отказаться и от трубки, не говоря уже о кофе и пр…Цель моя — не смотреть, а учиться».
В биографической литературе о Киреевском подчеркиваются личные мотивы, обусловившие его отъезд из России. Киреевский познакомился с Натальей Петровной Арбеневой, своей будущей женой, и горячо ее полюбил. Однако предложение, сделанное им в августе 1829 г., не было тогда принято, «и отказ глубоко потряс всю его нравственную и физическую природу. Его и без того слабое здоровье, видимо, расстроилось, за него стали бояться чахотки, — и путешествие было уже предписано медиками, как лучшее средство для рассеяния и поправления расстроенного здоровья». Возможно, все эти соображения действительно сыграли свою роль, по главным было, думается, другое: на необходимости поездки Киреевского за границу решительно настаивал Жуковский. Еще 15 апреля 1828 г. он писал А. П. Елагиной: «Я читал в Московской Вестнике статью Ванюши о Пушкине и порадовался всей сердцем. Благословляю его обеими руками писать; умная, сочная, философская проза. Пускай теперь работает головою и хорошенько ее омеблирует — отвечаю, что у него будет прекрасный язык для мыслей. Как бы было хорошо, когда бы он мог года два посвятить немецкому университету! Он может быть писателем! Но не теперь еще». В другом письме Жуковский убеждал уже самого Киреевского: «Я не много читал твоего, одну только статью; но по ней готов уверять, что ты мог бы сделаться писателем заметным и полезным для отечества. Но тебе недостает классических знаний. В убийственной атмосфере московского света не только не соберешь их, но и к тем ничтожным, которые имеешь, сделаешься равнодушным». Далее шли конкретные рекомендации, характеристика тех мест, которые Киреевский мог бы посетить во время заграничной поездки. Максимович определенно утверждает, что эта поездка мыслилась Киреевским как необходимое преддверие журнальной деятельности, к которой будущий издатель «Европейца» себя уже мысленно готовил. Увидевшись в Петербурге с Жуковским, Киреевский советуется с ним о планах поездки, намеревается отправиться в Берлин: «…проведу там месяц, буду ходить на все лекции, которые меня будут интересовать, и ознакомлюсь со всеми учеными и примечательными людьми, и если увижу, что берлинская жизнь полезнее для моего образования, нежели сколько я ожидаю от нее, то останусь там и больше». По впечатлениям Жуковского, «отправился наш милый странник в путь свой здоровый и даже веселый».
По-видимому, он не ошибался. Письма, которые Киреевский посылал из-за границы, мало похожи на письма отвергнутого влюбленного, отправившегося на чужбину для рассеяния и лечения сердечных ран. Через два дня после приезда в Берлин он писал матери, что «стал покойнее, яснее, свежее, чем в Москве… Я покоен, тверд и не шатаюсь из стороны в сторону, иду верным шагом по одной дороге, которая ведет прямо к избранной цели… Мои намерения, планы, мечты получили какую-то оседлость. Я стал так деятелен, как не был никогда. На жизнь и на каждую ее минуту я смотрю, как на чужую собственность, которая поверена мне на честное слово и которую, следовательно, я не могу бросить на ветер». Это были не пустые слова. Киреевский с головой ушел в университетский мир Берлина. Риттер пленил его систематичностью мышления: «Один час перед его кафедрой полезнее целого года одинокого чтения… Все обыкновенное, проходя через кубик его огромных сведений, принимает характер гениального, всеобъемлющего. Все факты, все частности, по в таком порядке, в такой связи, что каждая частность кажется общею мыслию». И далее: «Каждое слово его дельно, каждое соображение ново и вместе твердо, каждая мысль всемирна. Малейший факт умеет он связать с бытием всего земного шара». Ради Риттера Киреевский поначалу жертвует даже лекциями Гегеля, которые читаются в те же часы.