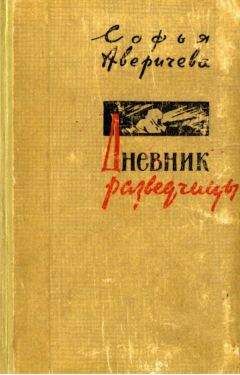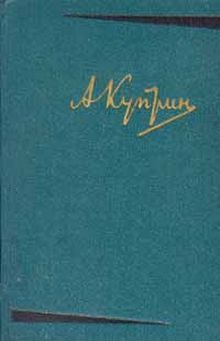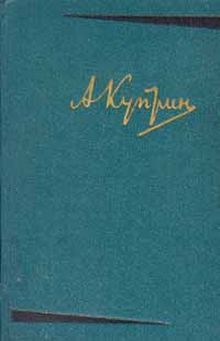Софья Федорченко - Народ на войне
Смерти не боюсь, змей же боюсь хуже смерти. Не то что рукой тронуть — от одного взгляду у меня по всему телу крапивница, с детства так. И вот раз командира ощупью мне искать пришлось средь своих и вражьих убитых. Нашел-таки беспамятного от потери крови, а все ж живого и теплого. Стал я его сердце рукой слушать, а у него под рубахой змея! Что же я? Задохся или крапивка по мне? Да забыл я про все это, ужа вытащил здоровенного, да за хвост, да закинул его повыше облака. Командира увел, донес до места, и с тех пор мне что змей, что кот — все едино. Как страх найдешь, не знаешь и не знаешь, как страх потеряешь.
Был у меня друг, земляк, корешок, и была у друга собака. И пришли какие-то, сказали: «Дезертир», увели на откос, повесили. Дома жена, спеленыш и мать очень старая. Душу при родных отдать не дали, не пустили проводить. Собака же увязалась, выстрелили в нее, сапоги с него сняли и ушли. Тогда пришла жена, принесла дитя, привела старую мать. Дамку-собаку кликали не отозвалась. Соседи говорят: «Жаль, Дамки нет, любил ее хозяин». Пришли к повешенному, снят он врагами с веревочки, для удобства грабежа, и лежит он на сырой земле, а Дамка прижалась к нему, голову на его плечо положивши. И оба застылые.
Видал я, что жив он, хоть и перемучен, видал, как его в ямищу швырнули и камнями вход заложили, глиной щели замазали. Подыхай. Попросился я у них в сторожа к этому месту. Сказал, что округа наша красненькая, еще придут, ночью уведут. Я же будто из богатых мужиков, обиженный красными, не нравятся они мне. Наружность же моя к словам подходящая, и сытый не знай с чего, и так вообще. А им наплевать, абы самовары ставил, ручки их берег. Глупые они от набалованности. Ночью я для тишины ноготками камни выковырял, спиртику ему в рот влил, на руках вынес. Я без ноготков, он без зубок, до единого выбили. Ушли и вот пришли. Ногти мои отросли, зубы же ему вставим, когда войну кончим. Пока и без них обойдется — есть-то почти нечего.
Я кволый, в особую драку не лез, куда уж! Только разок такой вышел. Михаила, друга моего, искали — на муку, на казнь. Вот сидим в хате маминой без огня, в хату шасть двое ихних, архангелов. «Где такой-сякой?» А Михайло храпит на печи. Сижу за столом, руки-ноги пудами, язык зазря сохнет, а в голове так и ходит. А Михайло храпит, как небесная сила! «Ты кто такой и где такое Михайло, по прозванию Морока?» И хрясь меня в ухо, для начала. Глянул я на Михайлов валенок, что с печи повис, а Михайло храпит! «Что ж,— говорю,— берите меня, я Михайло Морока». Знать, и зайцы кусаются, как за друга вступаются.
Так вот и держали его под печью на нелегальном положении. С лопаты кормили, ну и все такое. И вдруг в хату эти! Меня дома не было. Жену бить, допрашивать,— не сказала, не выдала. Тот в подпечье услыхал женин плач, вылезать было стал, загремел там. «Что такое?» — спрашивают. «Поросенка к празднику кормим»,— жена говорит. Потащили Авдотью, всю измордовали. Тут я вернулся, он рассказал. «Из-за меня»,— плачет. «Не из-за тебя,— говорю,— за дело твое»,— говорю. Вот же, такое настоящее дело,— ведь еженощно меня жена за товарища пилила, что держу в доме,— а как пришел нужный час, не выдала, перетерпела.
Когда шли они через наше место, весточку в мою хату обо мне занесли. Облила их мать моя слезами, как родных обласкала и спать уложила. Ночью колотят в дверь, обыск. Мать на печь, все барахло на дружков навалила, сама сверху легла, кряхтит-стонет, как бы от тяжкой болезни. Отец отворяет, сам он суровый, сивый такой. Кто его, бывало, знает, чего такое думает. «Говори, старик, куда коммунистов спрятал. Говори зараз! Зараз скажешь — зараз и вольный будешь, ничего тебе не сделаем, товарищей заберем, а ты к бабе на печь. Ну?» А отец им: «Не нукайте, не мерин, чтобы вам верил, никого у меня нету, кроме бабы на печке, да под печкой баран с овечкой». Чудной старик! Повесили его. Вот она, наука наша.
Я не дурак вообще-то, а не мог я видеть, как повели их за семь верст. Там по всяким законам казнить их будут. Вот ведут, рядом унтер идет, полноватый такой, усатый. Под рукой у него бумаги казенные, без бумаг нельзя у них было на тот свет отсылать. Между стражи идут трое фабричных, лет по за сорок людям, чай, отцы-деды, кормильцы! Изморенны, иссинячены, идут молчат, по-мужскому судьбу принимают. Однако по сторонкам зыркают все ж, ждут чего-то, умирать-то все же не хочется. Мы стоим смотрим, я да брат. И совсем же мы чужие. И разом, ну как по команде, кинулись мы на конвойных, а их, кроме унтера, трое! У них оружие. У меня да у брата сила в руках была все же, этого не отнимешь. Я кувырк унтеру под ноги, он через меня, я ему коленком на глотку, бумаги отнял. Гляжу: брат с фабричными конвой глушат. Вот мое начало. Озорные мы, что ли, оказались, или уж так время подошло правду отличить.
Прибился к нам в часть учителев сын, десятилетний мальчик. И слов наслушался, и отцовой тюрьмы не забыл. Словом, ушел из дому без корки единой, по дороге в перелеске к нам пристал. А у нас только что тачаночка отбита и полна вражьими снарядами. Мальчика к тачанке часовым приставили: что успели, разъяснили ему, как себя часовой соблюдать должен, сами же кто в бой, кто в разведку. Тут и лесникова хата, лесник ста лет хозяин, насквозь мохом пророс, да десятилеток на часах, снаряды вот как нужны. Ночь летняя поспешная, вот и свет, вот и враг, нас же нету. Мальчик выстрелил, они его прикладом, били, били и жгли даже — он как язык проглотил. Молча умер. Мы пришли, да поздно. Дед древний, видя эту смерть, в такой стыд вошел, заплакал. Плачет и говорит: «К чему,— говорит,— жить так долго, если вот десятилетний, а хорошо как помер!»
Ты не хвали, не подымай его выше головы за боевую удаль. Удалых меж нас леса-волоса. А вот с ним было такое в глухую, тяжелую осень. Шли они, таяся, все после тифа и шли между врагов. Он же всех слабей был и отстал. Отстал, в какую-то пещерочку-норку забрался — все равно идти не в силах. «Помру»,— думает. Лег он на сырую землю, руки протянул, батюшки! Банка с консервами! Еще банка, хлеба каравай, сыра головка! Разное. Кой-как хлебушка умял, малый кусок, продукты на слабые свои плечи взвалил и заспешил. И так всю ночь спешил, и догнал-таки где-то. И ведь ничем не попользовался, кроме как хлеба немножком. Этими продуктами да его непосильной удалью, что все донес он, и спасены все. И самое найглавное, чему почти и веры дать невозможно,— была меж продуктов спирту бутылка! Вот ты и рассуди, кто он какой и в чем его удаль.
Говорит: «Мы не доктора, все равно умрут дорогой, а я еще в деле пригожусь». И ушел, сукин сын!
А меня как цепью совесть держит. Те же оба в беспамятстве, оба ранены, один другого хуже. И за горой, слыхать, враги, вот-вот! Так такая дурость бабья! Сложил обоих на шинельку и поволок, сколько силы осталося. И если бы не ручеек, да тот бы сукин сын не ушел, доволок бы обоих живыми. А тут этот ручеек, захлебнулся один, зашелся, и кровь из рта, и помер. А другой от холодной водицы даже в силу вошел. Тут с горы враги стреляют, тут нас Аришенька встречает с бинтами-бантами. Меня тоже за ручейком подранили, от скуки. А догонять не стали, видят — полумертвые. А мы вот оба, и Аришенька с нами.
Брат под врагом, никак не сбросит — тяжел и крепок враг. Они лучше нашего жили. Нам грабить не к лицу было, белые же не стеснялись себя, всё, бывало, прижрут, припьют, припортят. Сильные были, дьяволы. Копошится брат, на поясе граната. Дорога жизнь молодая, да вражья смерть дороже! Не выдержал — хватил гранатой почем зря, и оба, по всем правилам, перед Господа предстали. Вот теперь и решайте на досуге, как с ними Господь рассудил, кому в рай, кому в пекло.
Вогнала меня в хату эту беда и рана. Хозяева тихо встретили, оба мертвые от тифа, и мальчик на лавке горел-догорал. И всё тут. Так я у них с недельку погостил без всякой еды, без всякой обиды, один квас плесневелый с тараканами. И возьми врага нелегкая,— из орудия по той хатке моей учиться стрелять стали. Что тут делать? Взял я хлопчика на плечи, выполз с ним кой-как. Тут по хате нашей перестали стрелять чужие, стали стрелять свои. Как музыка — такой от своей пушки звук хороший!
А я-то думал, на их поведение надеялся, товарищей на волю выпустить, как жаворонков на благовещенье. Ну такие распорядительные враги оказались! Ну не пьют, не спят, ну сторожат, да и только. Выбрал я все ж минуточку, за колодезь прилег в густые сумерки, до сарая заветного рукой подать. Тут солдат с ведром! Я в колодезь, неглубокий он был, на дно присел по шею, бадью ему зачерпнул половчей, чтоб скорей ушел. Ушел этот, второй пришел, затем еще, служу им, служу, тут уж темно совсем. Я четвертого оглушил, в колодезь спустил, бадью прицепил там накрепко — и к сараю. Весь теку, как утопленник. Как я замок сбил, как пташек выпустил, не помню. Вот тот рыжий, вихрастый,— тот мой первый жаворонок оказался, его спроси.
Убили они моего любимого командира, где-то бросили. День тужу, а служу, два тужу, а служу, на третий день прошусь: «Отпустите меня Ивана Дмитрича честно земле предать».— «Где ж найдешь,— говорят,— округа вражья»,— говорят. Стращали, уговаривали. «Затоскую,— отвечаю,— какой из меня тогда большевик». Отпустили. Ну, ищейкой туда-сюда метался и нашел-таки его на сметнике, в большом позоре, голого, крысами изъеденного. Одни его кудри золотые знак мне подали. Унес я его, при лесном озере закопал и березыньку в головах у него посадил. Думаю, на свежем его, горячем его сердце большой ей рост, березыньке, будет.