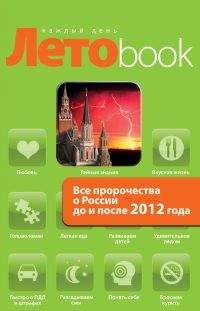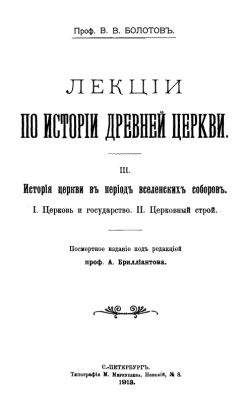Михаил Ямпольский - Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933 гг.
Поясним, что к области литературы все это не относится. Литература - с великолепным, но узким полем языка и с богатством ее наследия - не есть искусство, выражающее эпоху, отличительные черты которой скорость и ассоциативность мышления. Такой человек, как Жироду (он может до изнеможения возрождать силу слова), первым должен был бы указать метод визуального анализа, предоставив каждому улучшать его в соответствии со своим темпераментом. Кино - это единственное искусство, которое может придать фантастическому социальные характеристики той переходной эпохи, когда реальное на каждом шагу смешивается с ирреальным. В наше время каждый человек смещается по отношению к самому себе и следит за тем, чтобы его добродетели пороки не теряли собственного лица. Люди ежедневно меняют обличье и дурно стареют, нарушая естественное течение жизни. Это происходит, на мой взгляд, из-за того, что они живут двумя жизнями, каждый из которых определена «непосредственным контактом» с неведомой сущностью. Если кино в известной мере объясняет и творит чудеса, то нетрудно понять, каким ужасающим предупреждением своей эпохе оно может стать в руках еще не рожденного гения.
Когда человек берет лист папоротника и в одну секунду превращает его в уголь, он совершает чудо. Природа делает из папоротника каменный уголь за несколько тысячелетий. Значит, чудо - это явление природы, медленное развитие которого вмешательство божественной силы завершает в несколько секунд. Путем ускоренной смены кадров кино совершает такие чудеса.
Я сейчас думаю об этой невероятной эволюции, которую проходит фасолевый боб, на ощупь, с прилежанием слепого ищущий подготовленную для него подпорку.
Перенеся эти соображения на все проявления динамики жизни и уничтожив время, реализующее усилия людей в непредсказуемые сроки, можно легко вообразить, сколько непредвиденного способен привнести кинематограф в самое банальное происшествие.
Социально-фантастическое в его непосредственном контакте с жизнью, улицей было в основном разработано немцами. Они дали нам фантастические образы в «Последнем человеке» в «Новогодней ночи» (и особенно в «Улице»), на мой взгляд, наиболее характерной социально-фантастической ленте нашего времени. Этот фильм нуждается в объяснении, как и все картины, придающие жизни тревожную значимость путем незначительного видоизменения облика нашей социальной действительности. Свои заметки я мог бы посвятить скандинавской актрисе Эгеде Ниссен, женщине поразительного ума, чье появление в фильме Карла Грюне исполнено глубокой меланхоличности. Многим представителям «удачливого» поколения после войны захотелось простить другим их несчастливую молодость. Вийоны, хоть и не такие талантливые, в начале ХХ века перемещались с простым людом монмартрских кабачков, где говорили на самом жаргонном жаргоне, исключительно нестойком и изменчивом. Легче выучить английский или немецкий, чем арго тех девчонок и их мужчин: языки стареют медленнее и сохраняют, по крайней мере, свежесть, которой не найдешь в этих увядших до гниения словах, казалось, представлявших собой самую тайную, чистую и сентиментальную форму заблуждений, к которым приводила нищета, году, например, в 1903-м.
Ныне покойный «Сине-Опера» год тому назад показал нам фильм под названием «Улица». Через несколько лет эта картина превратится в образы памяти, столь же хрупкие, как целлулоидная лента, которая не сможет свидетельствовать в будущем даже об известной живописности нашей эпохи. Фильмы очень быстро гибнут и возвращаются в небытие, они с трудом продлевают жизнь, которая разрушает образы, едва породив их. Громкое имя и надежное состояние тому человеку, который найдет способ сохранять ролики с пленкой, называемые фильмом!
И если у Эгеде Ниссен и очень немногих других киноактеров и есть какая-то надежда, что их труд не пропадет для будущего, то лишь из-за того, что писатели запомнят их игру и с восхищением опишут ее. С тех пор как я узнал, что от киноленты несет трупным запахом уже в самый момент, когда она порождает жизнь, я легче поддаюсь своим нордическим вкусам и выбираю ту падаль, которую распознаешь не сразу. Я люблю снег, чистый и обманчивый, потому что, если поскрести рукой его белую шубу, часто можно обнаружить в нем труп кошки, а во время войны и человека, похороненного с застывшим в его предсмертном взгляде ужасом.
Следя глазами за полночными призраками, увлекаемыми за собой шлюхой в духе Табарена в ночь преступлений, каковы все ночи со времен войны, оживляя в уме те воспоминания, от которых иных бы стошнило, я думал о том прекрасном белом убранстве, в которое мы облачаемся годам к сорока, когда нажитое благополучие расцветает в нас абсолютной лояльностью. Поскребите снег, и вы увидите мраморные прожилки почвы, со вмерзшими в нее отбросами, от мороза у них вид претенциозный, потому что это все-таки не мумии фараонов. Так открываешь свое прошлое. Слабые вздрагивают и думают: «Я был на грани... «Другие вновь начинают находить ужасающее и соблазнительное удовольствие в нищете, которая, как костер, потрескивает в глубине нас, а временами прорывает покровы и выхлестывает чудовищны апофеозом, когда мы говорим самым бедным из наших соседей: «Бедняга Х... жизнь у него никудышная». И если нам должно охранять себя от соблазна, то бояться надо не большой бесшумной Машины с космогоническими фарами, в лучах которых танцуют небожительницы из Булонского леса, а черного пятнышка на снегу, появляющегося как знак скрытой болезни. Нищета - это медленно развивающаяся болезнь. Если подхватить ее в молодости, она утихнет - вначале от того, что бог пошлет, а потом просто-напросто от того, что он пошлет состояние. Она вновь появляется в тот момент, когда у человека уже все есть. И тогда нищета покажется ему желанной - хотя это, может быть, не совсем то слово, - но как бы то ни было, она не замедлит пустить в ход свою дьявольскую соблазнительность.
В фильме, где сутенер убивает то ли из слабоволия, то ли для того, чтобы завершить ночь так, как он ее начал, можно энергичным сжатием век, закрыв глаза, увидеть белизну снега, а быть может, и ангелов, одетых в те же великолепные убранства. Следя за чередой всех ошибок, преступлений, за деградацией мужской и женской части человечества, в конце концов всегда замечаешь ангелов. Они бесшумно летают вокруг маленькой приземистой девочки, от которой пахнет маслом и сушеными яблоками, и скорбно парят в коридорах образцовых тюрем в ночь перед смертной казнью. Ангел возник перед «Титаником», белый ангел из гренландского льда. Он склонился над кораблем, чтобы поиграть этой штуковиной, как мы играем с маленькими зверьками. Для самых слабых эти игры, как правило, кончаются очень плохо.
Следя на экране за странной посланницей смерти в лице Эгеде Ниссен, я думал о том, что невозможно представить себе единый для всех рай. Существует рай для девок и их сутенеров, другой - для их жертв, третий - для свидетелей, четвертый для судей. И в любом раю люди подсаживаются к столикам. Они приносят с собой свои радости и печали, как в тех бистро Сан-Уана, куда приходят со своей едой. В раю выставляют вино.
Теперь, когда я уверен в том, что фильм этот не будут больше часто показывать, я его прочно связываю со своей молодостью и никак не могу удержаться 'от улыбки при мысли о том, как подобное зрелище могло взволновать мое воображение проницательного лицеиста семнадцати лет. Короче говоря, я уже заново создал этот фильм. Мне слышались уличные крики, когда я затыкал себе уши и впивался глазами в страницу овидиевских «Метаморфоз». Все это много лет спустя привело к появлению нравственно-поучительного и одновременно извращенного фильма «Улица», где играет Эгеде Ниссен, актриса скандинавская и международная, которой удалось подмешать тайну жизни к несколькими ночными приключениям, наивным и жалостливым, и публика, не колеблясь, освистала ее по причинам, серьезность которых она сама не осознает.
III. Создание послевоенного романтизма.
Большинство государственных мужей Европы смутно опасается, как бы небо не рухнуло им на головы, чтобы, по великой исторической традиции, положить конец устроенному ими чудовищному беспорядку. Кино, надежный проводник самых эфемерных общественных явлений, помня о среднем вкусе своих бесчисленных зрителей, не могло не использовать это настроение, богатое одновременно фантастическими и изобразительными возможностями. Но поскольку область предвосхищений трогать опасно, этот рывок в будущее превращается в обходной маневр и позволяет показать лицо нашей эпохи в его бесконечно сложных аспектах.
Что до меня, то если бы сейчас в моей жизни был момент, когда человек выбирает средство, максимально, на его взгляд, приближающееся к идеалу и наилучшим образом способное выразить то, что он хочет, я остановился бы на профессии режиссера. Впрочем, она отнюдь не дает утешения. Если до сих пор ни один гений не наделил кино его истинной значимостью, это вызвано, может быть, нестойкостью материала, на котором отпечатаны образы. Относительная недолгoвечность глубоко продуманного произведения может отпугнуть от него творцов. Я думаю, что в тот день, когда будет изобретен способ сделать киноленту более или менее неподвластной времени, появятся гении, и тогда слово «кино» обретает тот точный смысл, который все мы ищем. Гениальный человек в конце концов всегда заметит свою гениальность. Обязательно найдутся люди, чтобы сказать ему об этом. И с того дня, как он осознает свое предназначение, он станет требовать относительного бессмертия для своих творений. Современное состояние кинопроизводства гарантировать это бессмертие ему не может.