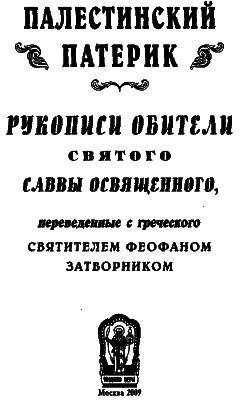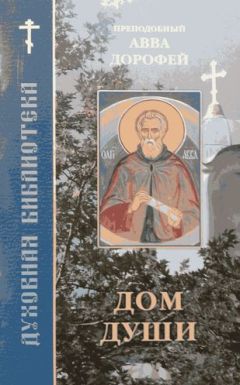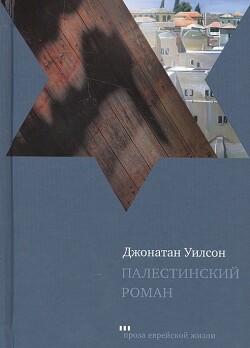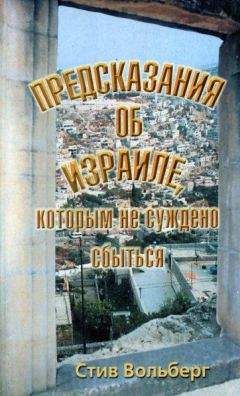Израильско-палестинский конфликт. Непримиримые версии истории - Каплан Нил
Тем, кто желает отточить свои навыки ведения дебатов или продвижения интересов избранной стороны, такой состязательный способ представления конфликта полностью подходит. В числе основных веб-сайтов, которые служат этой цели, — раздел «Мифы и факты» на сайте Еврейской виртуальной библиотеки (Jewish Virtual Library), который открывается сразу при нажатии на ссылку «Арабо-израильский конфликт»; самые популярные пропалестинские сайты такого рода — это «Электронная интифада» (The Electronic Intifada) и «Память о Палестине» (Palestine Remembered) [517]. Но для тех, кто действительно стремится лучше понять, почему стороны воюют, смогут ли они когда-нибудь преодолеть свои разногласия и при каких условиях, преимущества нерассуждающей приверженности той или иной стороне сомнительны.
Одна из тревожных особенностей публикаций и веб-сайтов в стиле «мифы против фактов» — это высокая степень уверенности, которую они демонстрируют и которая в реальной жизни обычно не встречается. Истина редко бывает столь проста, а факты редко бывают такими однозначными, какими их выставляют идеологи подхода «мифы против фактов». Кроме того, для такого рода текстов характерна всепроникающая тенденция делать нелестные предположения о мотивах другой стороны; на самом же деле наша способность проникать в «истинные» мотивы других людей мизерна, ненадежна и часто ничем не лучше догадок.
Тем же, кто ищет точности фактов и честной оценки сил, задействованных в этом конфликте, не стоит полагаться на подход «мифы против фактов». В его основе — отбор и манипуляция данными, а также широкий ассортимент риторических уловок и приемов, применяемых с единственной целью — отстоять интересы той или иной стороны, что вряд ли может приблизить кого-то к беспристрастному знанию или критическому пониманию. Вряд ли этот подход будет полезен и тем, кто ищет пути выхода из израильско-палестинского тупика: разжигая конфронтацию, он лишь очерняет другую сторону и раскручивает цикл поляризации, самооправданий и взаимного шельмования.
А как насчет обителей учености, профессиональные стандарты которых вроде бы должны требовать объективности и точности? Действительно, профессора и студенты, изучающие историю и методологию истории, постоянно сталкиваются с вызовами, которые ставит перед нами предвзятость. Один из первых уроков, который им приходится усвоить, — это понимание пределов объективности; как они рано или поздно обнаруживают, идеальной объективности не существует. В конце концов, даже самый нейтральный и беспристрастный ученый вынужден прибегать к отбору (включению/исключению) и расстановке акцентов при построении своего хронологического или аналитического описания прошлого.
Илан Паппе, один из израильских «новых историков» (см. раздел «Израильские „новые историки“» ниже), признает эти трудности:
Описание истории основано на выборе и на решениях. На самом деле историческое повествование — это нечто большее, чем простое перечисление событий; это скорее способ извлечения сюжета из собранных фактов; историк должен решить, что включить, что исключить, что подчеркнуть и как структурировать повествование. В силу этого неизбежно, что текущие политические реалии влияют на интересы и ориентацию профессиональных историков, особенно когда речь идет о спорных вопросах [518].
Действительно, можно с уверенностью сказать, что любой ученый и преподаватель сознательно или бессознательно дополняет контекстом и личным отношением примитивный каркас любой истории, которую он воссоздает из событий прошлого. Вопрос следует ставить не о «предвзятости» или «непредвзятости», но о том, какая именно предвзятость имеет место. Может ли ученый достичь такой степени осознанности, чтобы отслеживать и контролировать свои собственные предубеждения? Способен ли читатель распознать предвзятость автора (или сайта) и может ли это помочь ему лучше понять, как влияет эта предвзятость на излагаемую автором историю?
На читателя, который сталкивается с отличающимися друг от друга конкурирующими версиями истории — каждая из которых в той или иной степени предвзята, — ложится большая ответственность. Которая из них демонстрирует бо́льшую точность или полноту фактических данных? Какой способ представления фактов и мотивов исторических деятелей, предложенный тем или иным историком (или сайтом), кажется достойным большего доверия? [519] Внимательные читатели литературы, посвященной этой горячей теме, по своему опыту знают, что к заявлениям на обложках книг и рекламным проспектам издательств, восхваляющим объективность автора, следует относиться со здоровым скептицизмом; самые цветистые похвалы объективности часто маскируют совершеннейшую ее противоположность в том, что касается фактического уровня предвзятости и тенденциозности, демонстрируемой автором.
Поиск надежной и достоверной научной информации в этой области затруднен еще и переизбытком «историков-националистов», которых Сильвия Хаим в начале 1950-х гг. определила как ученых, которые посвящают свои «способности и научные труды прославлению [своей] нации или общины». Соглашаясь с тем, что «ни один историк не может работать, не имея определенной точки зрения», она критикует популярную книгу Джорджа Антониуса «Арабское пробуждение» (The Arab Awakening, 1938, см. обсуждение в главе 6), заявляя, что «Антониус придерживается националистической точки зрения» и, следовательно, «оценивать его нужно как историка-националиста»:
Это явление, несомненно, широко распространено, но тем не менее заслуживает осуждения… Поскольку он [историк] имеет дело с поступками людей, стоящих у власти, с добром и злом и вообще с тем, как люди поступают друг с другом, ему не позволено выставлять себя защитником одного небезупречного дела против другого небезупречного дела — а все политические дела небезупречны. Если он пытается так поступить, это свидетельствует лишь о его профессиональной несостоятельности [520].
Несколько десятилетий спустя редакторы одного сборника статей о конфликте описывали проблему академической предвзятости в схожих выражениях:
Даже среди ученых, которые должны быть объективными наблюдателями, конфликт вызывает глубокие эмоции… Ученые не застрахованы от страстей, обуревающих воюющие стороны, которые придерживаются разных версий истории, чтобы подкрепить свои притязания. Борьба, которой заняты эти ученые… проявляет себя в их противоречащих один другому доводах, аналогичных тем, к которым прибегают и сами участники конфликта [521].
Совсем недавно редактор «Энциклопедии палестинцев» (Encyclopedia of the Palestinians) сетовал на «слияние идеологии и науки» в области, где «доминируют приверженцы [той или иной стороны]… которые используют науку и журналистику, чтобы взбудоражить свой народ и получить поддержку мировой общественности — как оружие друг против друга в борьбе за Палестину» [522].
Все эти наблюдения очень хорошо иллюстрируют основные положения серии «Оспаривая прошлое», частью которой является эта книга. Историки вовсе не беспристрастные летописцы: они не только сообщают, но зачастую и усваивают, и развивают аргументы и позиции, выдвинутые конфликтующими сторонами. В последние несколько лет ученые стали еще активнее выстраиваться в боевые порядки, как будто шагая в ногу с обострением неразрешенного конфликта на местах. К сожалению, искаженное и поляризованное представление конфликта в научных работах, лекциях и на веб-сайтах встречается сегодня чаще, чем когда-либо. Более того, в академической среде стало обычным делом использовать свой научный авторитет, чтобы подкрепить одну версию истории конфликта и дискредитировать другую. Например, пропалестинская организация «Преподаватели за мир между Израилем и Палестиной» (Faculty for Israeli-Palestinian Peace) соревнуется с произраильской «Ученые за мир на Ближнем Востоке» (Scholars for Peace in the Middle East), организуя так называемые «образовательные» туры в регион и публикуя «исследования», которые, по сути, мудреным научным языком преподносят вариации на тему тенденциозного подхода «мифы против фактов», описанного ранее в этой главе [523]. Не так явно политизированы и больше ориентированы на исследования две американские организации: «Американский центр палестинских исследований» (Palestinian American Research Center, PARC), посвящающий усилия «повышению уровня научных знаний по вопросам Палестины, расширению круга экспертов, осведомленных о палестинских делах, и укреплению связей между палестинскими, американскими и зарубежными исследовательскими институтами и учеными», и Институт Израиля (Israel Institute), чья миссия — «расширять знания о современном Израиле путем предоставления доступных, инновационных образовательных возможностей в университетах и за их пределами» [524].