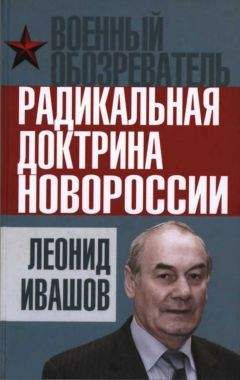Лев Троцкий - Проблемы культуры. Культура старого мира
Большие события – те, которые каменными столбами отмечают повороты исторической дороги, – создаются в результате пересечения больших причин. А эти последние, независимо от нашей воли, слагаются в ходе нашего общественного бытия. И в этом их непреодолимая сила.
Событий мы не делаем. Самое большее, если мы их предвидим.
Весь мир с изумлением устремил на восток свои взоры в тот момент, когда по нем проносился вихрь потрясающих событий. А многие ли верили в них, когда эти события безмолвно трепетали в социальных недрах, как младенец во чреве матери?
Ныне великие и грозные события дрожат от напряжения в социальных глубинах всего «культурного» человечества. Кто пытается уловить их общий облик и назвать их по имени, того официальная мудрость считает фантастом. Политическим реализмом она величает холопство мысли перед мусором повседневности.
12 апреля 1908 г.
Л. Троцкий. О СМЕРТИ И ОБ ЭРОСЕ
В воздухе стоял смешанный аромат кофе, табаку и массы человеческих тел. Был уже второй час ночи. Cafe d'Harcourt, самое бойкое на St.-Michel{127}, было безобразно переполнено. Вокруг столиков теснились, мешая друг другу локтями и коленями. Проходы были наполовину заставлены добавочными стульями. Из театров, cabarets, с улицы, бог знает откуда еще, набились сюда студенты, commis, (приказчики) журналисты, девицы квартала, – пестрая богема латинского городка{128}. Курили, пили, входили и выходили, толкали друг друга и не извинялись. Теснота создавала какую-то нелепую физическую интимность. Под ногами лежали кучи древесных опилок – готовились чистить пол к завтрашнему дню. Гризетки переходили от столика к столику походкой своей профессии. Гарсоны в белых передниках, залитых вином и кофе, усталые, но непогрешимые в автоматизме своих движений, бесцеремонно проталкивались среди публики с брезгливым выражением людей, которые каждый день видят одно и то же.
– Как хотите, – произнес совсем еще молодой русский приват-доцент, – но вы слишком уж легко разделались нынче с интеллигенцией, с декадентской литературой, с проблемой пола и со страхом смерти… Так нельзя. Я, положим, филолог, в общественных вопросах дилетант, но все же решительно и раз навсегда отказываюсь себе представить, как это ответственность министерства разрешит проблему пола.
– Да я разве вам это обещал?
Человек пять-шесть русских сгрудились вокруг маленького столика. Всем хотелось принимать участие в разговоре – по крайней мере, ухом. Столик был грязен, кофейная жижа, смешанная с табачным пеплом, стояла на его мраморе круглыми лужицами, окурки и обгоревшие спички валялись кучами в пепельницах, на блюдцах, даже в стаканах.
– Прямо вы этого не сказали, но ведь это вытекает-с. У вас «Жизнь человека», «Елеазар»[181], Ведекинд{129}, арцыбашевщина[182] стоят в прямом антагонизме со всеми «платформами», а особенно с вашей собственной. Либо одно, либо другое. Но ведь это же страшный произвол и натяжка. Насколько я понимаю вас – не только вас лично, но всех вас, – вы вовсе не иконоборцы: ни искусства, ни любви вы не отрицаете. Вы не утверждаете – по крайней мере, публично, – что политика имеет право на всего человека целиком. Но не станете же вы отрицать, что вопросы пола составляют добрый кусок жизни. И смерть – и смерть тоже составляет добрый кусок жизни. То есть мысли о смерти, зловещий отблеск, который она бросает на наши дела, и, наконец, если позволите, просто страх смерти. Декаданс, столь осуждаемое вами искусство современности, знает почти исключительно эти два момента: экстаз двух тел и разлуку тела с душою. Конечно, этим еще не исчерпывается жизнь. Но, как хотите, эти темы тоже чего-нибудь да стоят.
Что вы этому противопоставляете? Расширение бюджетных прав Думы? Извините, но это, т.-е. одно это – жидко. Даже в высшей степени жидко. Прибавьте сюда и всеобщее, равное и даже все обобществления… Не поймите меня, пожалуйста, криво: я всему этому совершенно искренно и горячо сочувствую. И тем не менее, в упор вам говорю: на интимнейших весах моей совести все ваши призывы не уравновешивают загадки смерти. Публично я вам этого, вероятно, не сказал бы, просто, чтоб не показаться смешным: но здесь, да еще в этот поздний час, когда нервы у всех у нас напряжены, обычные автоматические ассоциации ослаблены, и мы становимся внимательнее к собственной внутренней стихии, – и я отваживаюсь на эту дерзость. То, что мы все, здесь присутствующие, умрем, то, что издохнет все человечество, и то, что лопнет и обратится в труху весь земной шар, – это же имеет, чорт возьми, некоторое значение даже рядом с бюджетом посланника в Токио, даже лицом к лицу с вопросом о том, как следует производить и как следует распределять… Поняли?
– Понять-то понял…
– Погодите! Прежде у людей было авторитетнейшее примирение житейского «служения» с уверенностью в неизбежном конце. Это примирение давала вера. А нынче кто или что его даст? Может быть, исторический материализм?
– Может быть…
– Пустяки-с. Исторический материализм в лучшем случае попытается объяснить происхождение тех или других общественных настроений (эротизм, мистицизм) борьбой разных социальных сил. Хорошо ли он это сделает или плохо, мне сейчас все равно. Но ведь я-то, которому вы преподнесете ваши сомнительные объяснения, все-таки умру, и все те перспективы, которые развернет предо мною ваш исторический материализм, я, если даже уверую в них, для своего душевного обихода, все-таки вставлю в перспективу моей неизбежной смерти. Я спрашиваю: где же я найду примирение и избавление – не от смерти, конечно, а от психологического раздвоения, ею ежечасно порождаемого? Где? Вне мистики – нигде. Нигде. Это нужно честно признать. Но так как на мистику, на самоубийство разума я неспособен, то обращаюсь к искусству. Оно меня понимает и не отталкивает. Оно знает мои часы безумной бессонницы, когда кажется, что видишь самое дно бездны небытия. Оно знает тяжкие противоречия моего духа и находит для них звуки и краски… Я понимаю, что это только суррогат. Но вы-то что мне предлагаете? Объективный анализ? Аргументы неизбежности? Имманентное развитие-с? Отрицание отрицания? Да ведь этого для меня – не для интеллекта моего, для воли моей – страшно мало. Вы меня с этим психологически, морально, религиозно свяжите! Вы нащупайте в моей душе религиозную петлю, зацепите ее крючком вашего исторического детерминизма, тогда и волоките меня. Я с радостью повлекусь, «осанна!» кричать буду. А вы ведь не только не ищете, вы издеваетесь. «Принимая во внимание резкое повышение учетного процента на нью-йоркской бирже, с одной стороны, а равно консолидацию французской реакции вокруг министерства Клемансо»… – вот все, что вы можете предложить. Этого мало, оскорбительно мало… Да ведь солнце-то потухнет? Я вас спрашиваю: потухнет? Ведь это тоже объективный процесс, да еще и почище всякого другого. Вот вам уж и две объективности. С одной стороны, учетный процент где-то там, на каком-то клочке какой-то маленькой планеты, а с другой, во всей машине нашего мира пар на исходе…
– Ну, еще положим не совсем на исходе, – возразил весело журналист, на которого велась атака. – Garcon, un grogue americain, s'il vous plait!
– Не сегодня, так через двести тысяч лет! Принципиально это совершенно одно и то же. Важно то, что та социальная объективность, которою вы – простите – столь бесцеремонно хотите прикрыть мою личность, сама, как крышкой, придавлена сверху безотраднейшей космической объективностью. И глядя на эти две крышки, да еще крепко памятуя, что третьей «крышки», то есть личной смерти, ему уже никак не миновать, притом же не через двести тысяч лет, а значительно раньше, господин интеллигент возьмет да и скажет: «Чорт с вами со всеми!». Наденет шляпу на ухо и уйдет в нехорошее место. Вот вам и нью-йоркский учет! Вот вам и Клемансо-с!
Все рассмеялись.
– Я, с своей стороны, – обратился к журналисту застенчивый белокурый мальчик лет двадцати двух, – хочу сказать вам, если позволите, несколько слов по поводу так называемого «анархизма плоти», о котором вы сегодня с таким презрением упомянули в вашем реферате… Дело, конечно, не в названии, но я думаю, что это все-таки честная и смелая попытка ответить на огромный и трагический вопрос. Это прежде всего призыв подойти к делу просто, освободиться от совершенно призрачных и тем не менее страшно мучительных противоречий. Если хотите – это новая реабилитация жизни, необходимая время от времени в обществе, которое, как паук, ткет из себя паутину предрассудков и ложной морали. Фельетонисты теперь усердно подбирают примеры излишеств и уродств новой литературы. Как будто всякая борьба – политическая, социальная, религиозная – не создает своих эксцессов. Но ядро-то все-таки здоровое и прогрессивное…
– Господа! – сказал журналист, который после публичного реферата, закончившегося горячими прениями, все еще чувствовал себя, как ядро, выпущенное из пушечного жерла. – Мне в сущности невозможно принять сражение на той почве, которую вы сейчас избираете. Не угодно ли: от меня требуют, чтоб я мимоходом создал такое вероучение, которое помогло бы интеллигенту преодолеть скорлупу своей индивидуальности, осилить страх смерти и претенциозный скептицизм, которое мистически связало бы его «бессознательное», душу его души, с нынешней великой эпохой. Но ведь это же – извините пожалуйста, – прямое издевательство над моей точкой зрения. Это все равно, как если бы я прослушал научный реферат об историческом происхождении библии и затем потребовал, чтоб докладчик определил мне на основании Апокалипсиса дату второго пришествия. Mais ce n'est pas mon metier, messieurs, мог бы я вам сказать, не моя профессия, только и всего. Однако, я попробую – не возразить вам, ибо это невозможно – а противопоставить вашему самочувствию свое самочувствие… Начнем так. Вы говорите, что без мистики или какого-то суррогата ее обойтись невозможно. Однако, смотрите: мы обходимся. Нас сотни тысяч, миллионы, большие миллионы… Мы растем в числе каждый день. Прошу понять: мистика нам просто не нужна. По всему складу наших понятий и наших страстей – не можем, не хотим, не согласны и неспособны верить в киевскую ведьму. А вопрос – это и вы знаете – в конце концов, сводится именно к ней. Вон г. Бердяев начал с больших мистических высот, а кончил все-таки верой в ведьму – на помеле и с хвостом – и нынче вместе с чиновником Лебедевым{130} (помните, у Достоевского?) убежденно твердит, что неверие в ведьму «есть французская мысль, есть легкая мысль». А вы, почтеннейший профессор, посредине застряли: разум тянет вас к нам, а чувством вы – с Лебедевым…