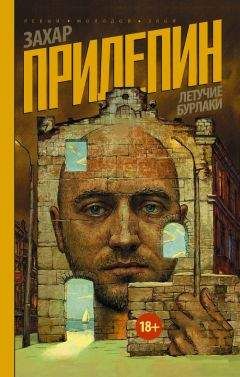Захар Прилепин - Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями
Я особенно люблю именно «Басилевса» за то, что в этом безупречном рассказе две эти славниковские ипостаси – врожденное чувство слова и мастерство – слились настолько, что стали наконец неразличимы. Это настолько хорошо, что непонятно как сделано – швы не видны. А если и видны, то у вас все равно нет ни иглы такой, ни ниток.
Герман Садулаев
Я – Чеченец!
Чеченцы очень сентиментальны.
Гордый, по-своему красивый, очень сентиментальный, временами очень несчастный народ.
Такой можно сделать вывод, прочтя замечательную книжку Садулаева.
Удивительная вещь: вы заметили, что защитниками и адвокатами чеченского народа (пока его бомбили и в него стреляли) выступали кто угодно, кроме чеченцев. Они что, сами говорить не умеют?
Сборник повестей «Я – чеченец!» – более чем достойное завершение всей кавказской линии русской литературы. Бестужев-Марлинский, Лермонтов, Лев Толстой…
Садулаев сказал как-то, что вышеназванные – первые чеченские писатели. Если они первые чеченские, то он в этом смысле – последний русский.
Собственно Садулаев завершил круг (дай Бог, дай Бог) всей этой кровавой русско-чеченской истории с точки зрения литературной.
Несколько обобщая, можно сказать, что «чеченская» проза развивалась по двум направлениям.
Первое – сентиментально-романтическое: от Бестужева-Марлинского до «чеченской» дилогии Проханова.
Второе – очерково-реалистическое: от рассказов Толстого до повестей Аркадия Бабченко.
Первое направление Садулаев закрыл книжкой «Я – чеченец!», а второе – нарочито публицистической, в некоторых местах осмысленно схематичной (хотя материала хватило бы на целый эпос) повестью «Шалинский рейд».
Теперь все. Давайте закроем, что ли, эту тему.
Садулаев научился у русской литературы всему: строению фразы, музыке, разноголосию.
Он принес – или, скорее, вернул – в нее то, о чем мы немного подзабыли. Некое, знаете, аристократическое спокойствие – то, что имелось у Пушкина и Лермонтова, а потом было вытеснено самоподзаводной истерией, злобой, крикливостью, нарочитой мрачностью. И еще – ответственность за свои слова.
Садулаев не просто пишет («сочиняет литературу») – он будто бы готов представлять свои тексты на Страшном суде в качестве главного оправдания себя и своего народа.
В России хорошие писатели редко хотят отвечать за весь народ. И за себя-то не очень хотят.
Марина Степнова
Бедная Антуанетточка
Марина Степнова непростительно мало работает. Нет, может, она незаменима в качестве редактора журнала «XXL» и замечательно справляется с домашним хозяйством, но результаты ее работы как прозаика до обидного малы – два небольших романа («Хирург» и «Женщины Лазаря») и скромный выводок рассказов.
Между тем, едва Степнова появилась в «толстых» журналах (а она как появилась – так и пропала сразу, ограничившись одной публикацией в «Знамени» и одной в «Новом мире»), в тот же день можно было бы бежать к Белинскому, крича про нового Гоголя.
Впрочем, прозу Степновой – легкую и жесткую одновременно, стремительную, внимательную к деталям, аккуратную (чувствуется, что автор редакторствует) – отнести можно к самым разным традициям: и к русским, и к европейским, и назвать сразу десяток писательских имен, чтоб читатель сразу понял, о чем идет речь; но мы даже не будем начинать.
«Бедная Антуанетточка», да, про очередного маленького человека (на этот раз маленький человек – толстая девочка, выросшая в некрасивую женщину). Этого маленького человека по-прежнему никто не любит, кроме русского писателя, но наконец русский писатель обрел взаимность: Антуанетточка любит читать, что не избавляет ее от нелепой смерти – про которую так и не поймешь, маленькая она или огромная.
Хотя весь этот пересказ не имеет никакого значения. Просто перед нами отличная проза, вот и все.
Дмитрий Данилов
Черный и зеленый
Данилов, крайний раз, когда виделись, смешно ответил мне.
Я огромный поклонник его прозы, однако, узнав о том, что Данилов написал новую книгу, все-таки слегка усомнился:
– Даже не понимаю, каким путем ты пойдешь теперь.
На что Данилов весело ответил в том смысле, что:
– Все пишут одно и то же годами – и ничего, а за меня каждый считает своим долгом поволноваться!
Манера Данилова действительно очень узнаваемая (и привязчивая) – это такой нарочитый примитивизм, аутичная лирическая проза. Но она только внешне кажется простой («я тоже так могу», – скажет глупый человек) – на самом деле у Данилова редкое чутье на слово, точнейший слух, совершенно зачаровывающее меня чувство юмора и полное отсутствие какой бы то ни было пошлости в любых формах. (Характерно, например, что Данилов – верующий и понимающий Церковь человек – религиозный момент из своей прозы исключает напрочь.)
То, что он делает, – это отчасти традиции обэриутов, в меньшей степени Платонова, в самой большей степени Добычина. И конечно, это родственно Анатолию Гаврилову.
Однако вся эта генеалогия ничего не объясняет, потому что я, к примеру (Дима, не ругайся), к прозе Добычина или Гаврилова остаюсь последовательно равнодушен, а от сочинений Данилова подрагиваю щекотной радостью.
Отличие Данилова от Добычина и Гаврилова – для меня – простое.
У Данилова есть уже упомянутое мною тонкое лирическое чувство и очень родственное мне смеховое (но ненавязчиво смеховое) восприятие действительности.
Даниловский юмор – это такой шаг в противоположную сторону от всей этой квазидиссидентской, нудной, сальной, физиологической какой-то русофобии. Не сказать, что Данилов больше всего смеется над собой, – но он точно не возвышает себя над остальными за счет своего юмора (тонкой душевной организации, недюжинного интеллекта ума, писательского дара и т.д.).
Нормальный человек в абсурдном мире – он чувствует себя там, в сущности, нормально. Вопиющая бессмыслица происходящего не вызывает его брезгливого раздражения – но и радости тоже не вызывает, конечно.
Проза Данилова – это описание замечательного человеческого стоицизма, только совсем другими средствами. Его собственными, даниловскими.
Роман Сенчин
Конец сезона
Про Романа Сенчина можно сказать, что он пишет ровно, и тут же сказать, что он пишет неровно: и первое, и второе будет правдой.
Интонационно Сенчин действительно работает в свойственной ему достаточно монотонной манере – собственно, она и действует особенно жутко в «Московских тенях», и в «Елтышеве», и, наверное, во всех остальных вещах Сенчина тоже действует, хотя и не так остро.
Неровно он пишет потому, что какие-то отдельные его рассказы или повести кажутся совсем уже тривиальными и по исполнению, и по сюжету – однако надо думать, что и эта тривиальность осмысленна; к тому же, по большому счету, сложноразветвленная событийная сторона никогда особенно традиционного русского писателя не занимала.
Однако в повести «Конец сезона» все совпало как надо.
Все основные (очень простые – а у кого сложные?) темы Сенчина получили идеально внятное звучание: героям хочется, чтоб было хорошо, а получается черт знает что, стройный мир в любой момент расслоится и осыплется, в каждом празднике заложена ложь, потому что вообще нечего праздновать.
Когда читаю Сенчина, все время слышу чей-то тихий, закадровый, упрямый голос: «Не надейся, не надейся, не надейся…»
В его мире оставлены за ненадобностью и «не верь», и «не бойся», и «не проси» – все это не работает и не спасает: можно и бояться, и просить, и верить – смысл будет все тот же самый, нулевой.
Не сойти с ума и не проиграть немедленно может только тот, кто не надеется.
Но и он проиграет в итоге.
Мне этот мир не близок, я в нем не живу, хотя он меня, как и всех людей вокруг, часто зовет в гости. А я не хочу и не буду там жить.
…Но проза все равно очень убедительная.
Михаил Елизаров
Госпиталь
Елизарова обвиняют чуть ли не в фашизме, в дурных намерениях и суровых повадках – но это говорит лишь о том, насколько наша либеральная интеллигенция любит пугаться. Это ее нормальное состояние – быть слегка в истерике.
Что до меня, то мне Елизаров (его проза, а теперь вот еще и песни) всегда напоминал ребенка, наделенного недетскими способностями (и недетской силой и ростом).
Сидит это зачарованное дитя, которое читает по букварю и одновременно на равных общается с духами (не в армейском смысле), – а когда ему рассказывают сказки, оно говорит: нет, не так, там было по-другому, – и дорассказывает за взрослых.
Эту детскость, непосредственность, какую-то даже, простите, чистоту в Елизарове никто не хочет рассмотреть.