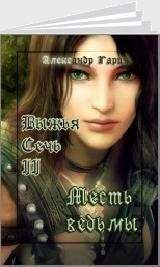И Гарин - Пророки и поэты
Все пути ведут нас к одному и тому же феномену: бегству от человеческой личности к ее эйдосу, к ее чистой идее. От изображения вещей художник переходит к изображению идей.
Сам Беккет формулировал задачу своего искусства следующим образом:
Материал, с которым я работаю, - бессилие, незнание. Я веду
разведку в той зоне существования, которую художники всегда оставляли
в стороне, как нечто, заведомо несовместимое с искусством.
Нашим искусствоведам в штатском хотелось бы представить Беккета как измельчавшего Джойса или выродившегося Кафку, как некогда сгоряча сказал Вигорелли. А он - равный им колосс, "самый глубокомысленный писатель", "единственный, кто решается прямо смотреть в лицо наиболее важным проблемам современности".
Когда открываешь для себя Беккета, никак нельзя отрицать силы
получаемого впечатления, не смею сказать - обогащения, потому что речь
идет об осознании абсолютной нищеты, которое он нам дает. Нищеты,
нашего единственного достояния и богатства. Неисчерпаемой,
ослепительной нищеты.
Некогда доктор философии Серенус Цейтблом говорил о шедевре Леверкюна, который звучит как плач Бога над почившим своим миром, как горестное восклицание Творца: "Я этого не хотел!"
Здесь, думается мне, достигнуты предельные акценты печали,
последнее отчаяние отождествилось со своим выражением, и... я не хочу
этого говорить, боясь оскорбить несообщительную замкнутость,
неизлечимую боль творения Леверкюна разговором о том, что до последней
своей ноты оно несет с собой другое утешение, не то, что человеку дано
"поведать, что он страждет. Нет, суровая музыкальная поэма до конца не
допускает такого утешения или просветления! Но, с другой стороны,
разве же парадоксу искусства не соответствует религиозный парадокс
(когда из глубочайшего нечестия, пусть только как едва слышимый
вопрос, пробивается росток надежды)? Это уже надежда по ту сторону
безнадежности, трансценденция отчаяния, не предательство надежды, а
чудо, которое превыше веры.
Великая в своей безысходности боль трагедий Беккета, питаемая высшим вдохновением, есть этот плач Бога, плач по человечеству, плач, неспособный ни облегчить его бесконечные муки, ни придать им смысл.
Беккет - это и есть развернутое предостережение леверкюновского черта, а его вопль отчаяния - крик отъединенного, отчужденного, одинокого человека, утратившего связи с миром. Но не цинизм отчаяния и не самоглумление одиночки, как интерпретируют доктора с лампасами, а демонстрация того, во что способно обратить нормального человека ненормальное общество.
Шоки непонятного, которые восполняют художественную технику в
эпоху утраты ею смысла, претерпевают превращение. Они освещают
бессмысленный мир. Ему приносит себя в жертву новая музыка. Всю тьму и
вину мира она принимает в себя. Все ее счастье в том, чтобы познать
несчастье; вся ее красота в том, чтобы отказаться от видимости
прекрасного. Никто не имеет с ней ничего общего - индивиды так же
мало, как и коллективы. Она затихает никем не услышанная, без эхо.
Такова, кстати, музыка Холлигера к беккетовскому "Come and Go".
В творчестве Беккета, как ранее у Белого, Джойса, Музиля, сама сущность выступает против своего существования, заявляя ему решительный протест. Чистое, идеальное "я" есть антипод личности, как время - антипод вечности. Это - и высшее торжество и гибель, ибо овладеть собой - значит себя уничтожить. Максимум сознания - конец света, считал Валери.
Мир Беккета - оцепенение и автоматизм. Почти все его герои неподвижны. "Они всегда в одном месте, месте их страданий".
Мир его героев замкнут не символическими цилиндрами или урнами, в которых они обитают, а одномерностью духа человека-массы. Беккету удалось атомизировать толпу и показать, что все ее свойства присущи каждому атому в отдельности. Его герои и есть конформистские атомы-символы, элементы абсурда.
Нет, не драма абсурда, а крик устами своей раны, боль бытия, шекспириана эпохи прогресса и "больших скачков".
Нет, не писатели отравляют жизнь - они ее уже находят отравленной, писал Г. Белль. Беккет ничего не придумывал - подводил итоги увиденному.
"В ожидании Годо" - драма символов, миф об упадке, о тщете бытия, о вырождении, об опасности и бессмысленности действия в эпоху восторжествовавшего прогресса: "Не будем ничего делать. Это безопаснее". Мир одномерного человека примитивен и убог, его ценности абсурдны, сам он безумец. Налицо оцепенение и автоматизм, либо жестокий энтузиазм разрушения - две крайности убожества.
Да, действительно, значительную часть отпущенного нам времени мы
сидим и ждем; но это происходит отнюдь не в метафизическом мраке, где
прячутся "они". "Они" борются против нас, а мы боремся с "ними". По
отношению к другим мы сами - это и есть "они".
На смену залитым солнечным светом подмосткам шекспировских
времен, окруженным со всех сторон тесным кольцом зрителей, на смену
тем насыщенным энергией столкновения характеров, которые ясно и
наглядно вскрывали главные пружины действия, пришла мрачная и темная
сцена, на которой царит бездействие, и на которую взирают и которую
подчиняют себе силы, незримо присутствующие за кулисами, а публика
стала "болотом" - так называет ее беккетовский Владимир, подходя к
рампе и глядя в зрительный зал.
Когда ожидают Годо, то подразумевается, что он может прийти.
Ожидание Годо, который так и не приходит, обретает драматизм,
способный волновать сердца только в случае, если тот, кто скорбит об
отсутствии Бога, убежден, что некогда Бог существовал, только в
случае, если бессмысленность религии воспринимается как утрата того,
что было в прошлом реальностью.
"В ожидании Годо" - это пьеса, отрицающая историю. В отличие от
"Короля Лира" у нее нет определенного места действия. Сразу же по
окончании спектакля эту пьесу можно показать опять и повторять сколько
угодно раз подряд: ведь нет никакой разницы между ее началом и концом.
Постановка "Годо" П. Холлом в 1955-м вызвала бурю шекспировской мощи. Симптоматично, что затем последовала постановка "Троила и Крессиды": Шекспира по Беккету...
...во внешнем облике спектакля, подчеркивающем пыльность,
пустынность жизни, в этом песке, который впитывает кровь воинов,
гибнущих из-за бессмысленной распри, то есть абсурдно, неразумно, - в
этом "пустом пространстве" чувствуется родство с абсурдистской
драматургией... И идея смерти, олицетворенной в образе Пандара, смерти
как единственного выхода из создавшегося положения, тоже близка
разработке этой темы у Беккета. Более того, драматургия абсурда,
безусловно обновившая внешний облик театра и драмы на Западе, могла
стать причиной того, что "Троил и Крессида" была около 1960 г. наконец
оценена и понята публикой. Хотя бы с точки зрения жанра. Недаром Д.
Стайен в своей книге "Мрачная комедия: развитие современной комической
трагедии" пишет в том числе и о "Троиле и Крессиде": "Колебания
тональности от трагедии до шутовства пронизывают ткань пьесы. Хотя они
не усиливают потенциальный трагизм, но наделяют пьесу тем особым
привкусом горечи, с которым мы ее всегда связываем". Именно эта
жанровая гибридность или многогранность свойственна пьесам С. Беккета:
они не веселы, ибо мы сталкиваемся с человеческим несовершенством,
слабостью, но для трагедии слишком ничтожен сам материал. Нечто
подобное имеет место и в "Троиле и Крессиде"...
Неудивительно, что именно эта пьеса стала в XX веке полигоном сценических экспериментов - вплоть до "ничейной земли" X. Пинтера, сродной "Бесплодной земле" Элиота или "Waste Land" В. Вулф. Питер Холл в 1960-м и Джон Бартон в 1968-м ставили "Троила и Крессиду" в духе театра абсурда нечто среднее между фарсом и трагедией, призванное усилить "последние разочарования Шекспира". В постановке "Троила и Крессиды" Терри Хендса Троя напоминала бункеры времен второй мировой войны, а герои носили шинели и каски. Война показана во всей своей гнусности и грязи. "Но постановка... говорит не столько о мерзости войны, сколько о мерзости рода человеческого, для которого война является естественным состоянием".
О постановке Бартона писали:
Режиссера интересуют не отдельные персонажи, а общая атмосфера
разложения, вызванного бессмысленной и жестокой войной, атмосфера
варварских оргий, цинизма главарей... девальвации моральных ценностей.
Культ секса, культ наслаждения господствовал в атмосфере
спектакля... разбой и разврат господствуют в мире, и победа достается
бездушному и бесчестному.
В печально знаменитой постановке 1968 г. Дж. Бартон выделил в
пьесе чувство яростного пессимизма.
То же говорили об инсценировке П. Холла: он дал нам почувствовать всю горечь Шекспира.