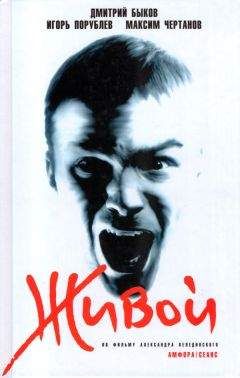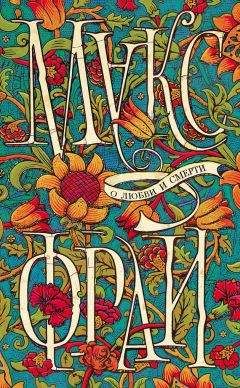Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
Никому, кроме Шаламова, такого пафоса не простили бы: русская литература всегда была человечна и тем гордилась. Но ему не очень-то нужно прощение, он заранее выварился во всех котлах, а потому смог сказать свою правду, бескомпромиссную, как приговор трибунала. Человек, вернувшийся с Колымы, уж как-нибудь может не бояться полемики, критики и даже забвения. Плюс к тому никто, кажется, не оспаривает его огромного литературного дара: сама концепция «сверхлитературы» — или «сверхпрозы», — подхваченная впоследствии Адамовичем и Алексиевич, не могла бы существовать без шаламовского художественного результата, убедительного для любого скептика. Есть вещи, о которых литература не имеет права говорить: нужно что-то иное. Абсолютно беспристрастное свидетельство. Проза, голая, как зэк в лагерной бане, как заключенные Освенцима, сваленные в хлорную яму. Проза, отказавшаяся от всего прозаического, о людях, лишенных всего человеческого. Шаламов это сделал, и это оказалось чрезвычайно сильно. Пусть эмоции, вызываемые его прозой, суть эмоции довольно простые, «первого порядка», а настоящую цену имеют, на мой взгляд, только более сложные — умиление, жалость, нежность, благодарность, бескорыстный восторг, но ударить по голове можно и лопатой, предметом простым и надежным. Катарсиса такая литература не предполагает, но отвращение к человеческой природе внушает стопроцентно и не обещает никаких утешений типа «Автор все это прошел и остался человеком». Не остался. В русской литературе XX века всего две книги, авторы которых не описывают, а на собственном примере демонстрируют, что такое распад растоптанного человека: «Вторая книга» Надежды Мандельштам и «Колымские рассказы» Шаламова. У Шаламова особенно наглядны этапы постепенного разрушения личности — в «КР-2» случаются оборванные фразы, необоснованные инверсии, бессмысленные повторы, композиционные провалы, бормотание безумца. К семьдесят второму году он был руиной и не побоялся сделать себя еще одной, самой наглядной иллюстрацией главного тезиса: проект «Человек» надо закрывать.
Правда, в Европе был писатель, очень на Шаламова похожий и все-таки отличный от него в главном: поляк Тадеуш Боровский, автор книг «Прощание с Марией» и «У нас в Аушвице». Там то же неверие в человека и тот же отказ от любых утешений — но Боровский пошел дальше: он каждого выжившего поставил под подозрение. Раз выжил — значит, кого-то предал или чем-то поступился. С таким мировоззрением жить было нельзя, и он, уцелев в Освенциме, не уцелел в аду собственной концепции: выбросился из окна в неполных двадцать восемь лет. Шаламов поставил под сомнение всех, кроме себя, но в конце концов изобразил ад собственного безумия, так что кончил, в сущности, тем же, просто Боровский не дожил до интерната психохроников.
Странно, что в сегодняшней России Шаламов оказался востребован: его экранизировали, сделали сериал «Завещание Ленина» — несколько более мастеровитый, чем обычная телепродукция (как-никак Досталь), но не дотягивающий, конечно, до шаламовской антиэстетики, до его чудовищной точности и ледяной ненависти. Это продукция уровня «Штрафбата», предыдущей работы Досталя, которую от неожиданности перехвалили, даром что она очень ходульна и безвкусна. А понадобился сегодня Шаламов, как ни странно, для очередного развенчания русской революции — картина ведь называется не «Гнусность Сталина», а «Завещание Ленина». Вот оно, получается, завещание-то. Вот что Ленин-то нам оставил, вот к чему с фатальной неизбежностью приводят любые попытки изменить общество и человека. То есть дихотомия наконец сформулирована: либо любите такую стабильность, какая есть, либо будет вам ГУЛАГ. Авторам невдомек, что ГУЛАГ и есть изнанка стабильности: пока ТУТ была стабильность, ТАМ была Колыма. Шаламов привлечен для иллюстрации тезисов, стопроцентно ему враждебных: он весь стоит на жажде полной и окончательной революции, которая отменила бы прежнего человека как он есть, а с помощью его дикого, неинтерпретируемого в человеческих терминах опыта нам доказывают именно абсолютность и безальтернативность этого самого человека: шаг влево, шаг вправо — ГУЛАГ.
То есть и после смерти не повезло.
21 июня
В Париже открывается антифашистский конгресс писателей (1935)
ЭКСПОРТНАЯ РОССИЯ
21 июня 1935 года в Париже, в Palais de la Mutualité, открылся так называемый Международный антифашистский конгресс писателей в защиту культуры — одно из самых пафосных и провальных советских мероприятий в области внешней культурной политики. Инициатором и главным организатором этого писательского съезда был Илья Эренбург (в Париже), а куратором — Михаил Кольцов (в Москве). В 1999 году в «Новом мире» опубликована их переписка по этому поводу — в общем, паническая: по Парижу ползли слухи о московском финансировании, крупные литераторы не желали участвовать в откровенно просоветском мероприятии, состав делегации в отсутствие Горького всех разочаровал, а в разгар конгресса пробравшиеся на него троцкисты подняли вроде бы не относящийся к делу вопрос о свободе печати в СССР, и вместо антифашизма и привлечения сердец получилось оправдывание, переходящее в хамство.
Обо всем этом вспоминают сейчас разве что историки, а обычный читатель помнит только, что на нем чуть не сошел с ума и без того пребывавший в кризисе Пастернак, которого вместе с Бабелем отправили выступать в последний момент. В недавней остроумной статье Иван Толстой выводит это решение из скандала, случившегося между Эренбургом и Бретоном за неделю до конгресса: Бретон попытался удалить Эренбурга за оскорбительную статью «Сюрреалисты», вышедшую за два года до того. Думаю, это серьезная натяжка — делать международную проблему из каждой эскапады Бретона, которого и свои-то считали безбашенным, было бы несколько неэкономно. По Толстому, Эренбург дал в Москву паническую телеграмму, сводившуюся по смыслу к «Наших бьют!», но слать Пастернака и Бабеля для защиты Эренбурга от драчливого сюрреалиста тоже, воля ваша, бессмысленно: чай, не боксерский турнир. Решение об отправке Пастернака на конгресс было принято именно потому, что стал очевиден громкий международный провал всей затеи, а вот о причинах этого провала стоит подумать семьдесят лет спустя, хотя надежды на исправление этих хронических отечественных ошибок нет, признаться, ни малейшей. Просто история очень уж показательна.
На первый взгляд расклад беспроигрышен: фашизм набирает силу, единственной альтернативой ему выглядит коммунизм — поскольку старая либеральная Европа совершенно деморализована; о мере личной порядочности Эренбурга и Кольцова можно спорить, но талант и профессионализм обоих не оспаривается, кажется, даже врагами; необходимость культурного антифашистского фронта в мире ощущается с небывалой остротой; московских процессов еще не было, террор не разгулялся в полную силу, симпатизировать СССР модно, такие симпатии высказывают Жид (еще к нам не съездивший), Мальро, братья Манны! И между тем СССР умудряется все испортить: конгресс переходит в скандал, советская делегация не говорит на нем ничего внятного, последствий ноль, и даже наметившиеся было массовые либеральные симпатии к «Союзу Советов», как называл его Горький, постепенно развеиваются. Добавим, что такова участь почти всех российских мероприятий, направленных на «культурное сближение», в диапазоне от международных фестивалей до совместных литературных экспрессов, от культурных десантов до тематических декад; и главная причина всех этих провалов — роковая двойственность нашего имиджа, желание одновременно задобрить и напугать.
То, что на антифашистском конгрессе неожиданно принялись обсуждать преследования инакомыслящих в СССР, — вещь глубоко логичная: когда заходит речь об одном тоталитаризме, нельзя не упомянуть другой. Но то, что никто из участников советской делегации не сумел сказать в ответ ничего внятного, — как раз и есть следствие двойственности: надо любой ценой соблюсти баланс между гневной отповедью и дружеским диалогом, а этого ведь не бывает. И послать на конгресс надо, с одной стороны, настоящих и лояльных, испытанных и боевых, но вот проблема, их на Западе никто не знает и слушать всерьез не станет. Можно, конечно, послать не таких лояльных, зато известных в мире, но ведь черт его знает, что они там скажут! Вдобавок сами эти нелояльные, как Пастернак в 1935 году, пребывают уже в таком состоянии, что умеют только произносить отрывистые и непонятные речи («Не организуйтесь!» — как передавал он потом И. Берлину пафос своего выступления) или беспричинно рыдать в ответ на любое человеческое слово.
Главная же проблема, думается, в том, что наш человек за границей — или дома при встрече с иностранным гостем — не ощущает себя независимой личностью: при любом контакте с заграницей самостоятельность мигом утрачивается, и мы уже не мы, а представители державы. Американец, француз, даже австралийский абориген может приехать в Россию как частное лицо, но мы в столкновении с внешним миром всегда не за себя, а за того парня, в ответе за всю нашу историю и современность. Главное — не ударить в грязь лицом. Любой, кто с нами не согласен (в частности, бармен в баре или шофер в такси), оскорбил не конкретно нас, а Невского, Гагарина, Кутузова, негромкую прелесть и васильковую чистоту. Мы выражаем не личное, а государственное мнение, а потому никак не можем быть ни убедительны, ни искренни. Совершенно как Киршон, Тихонов или Караваева за границей.