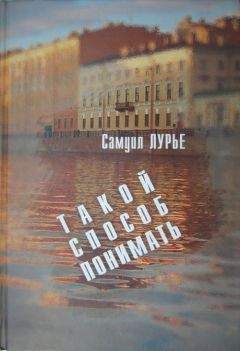Самуил Лурье - Железный бульвар
Он поднялся, распрямляясь. Не спуская с меня глаз, он, не глядя, протянул руку и нащупал папку.
„Его пальцы, свертывавшие козью ножку, дрожали“, — сказала я и тоже встала. — Все. Можете идти. Это все, что я могу сказать вам о вашей литературе… Прощайте. Почему у вас не хватило достоинства промолчать? Всего только промолчать? Ведь от вас никто этого не требовал… Неужели… из уважения к тем, кого вы засыпали землей… вы не могли как-нибудь иначе зарабатывать себе на хлеб с маслом?.. Чем-нибудь другим. Не лесом. Не шахтой. Не ребенком — тамошним. Не… заиканием вашего друга?
Он вышел».
Что я и говорю: Лидия Чуковская — автор необъяснимый. Этой сцене и современники-то не хотели верить, а на что надеяться от каких-то там будущих других? Она именно думала, что пишет для и ради неизвестных братьев, которые найдутся же когда-нибудь и всё поймут, тяжесть и стоимость каждого звука. А они вот возьмут и как раз не поймут, скажут: рецензия в лицах — а женщин таких не бывает, или никто их не любит.
Действительно — партия, правительство и, главное, ГБ несколько десятилетий подряд чего только не делали, чтобы излечить своих трудящихся от этой, столь неестественной, аллергии на вранье. Таких и всего-то существовала в СССР — горстка, и Лидия Корнеевна почти всех пережила.
Разумеется, это чудо (еще одно слово, нуждающееся в начальной прописной). Нет, не то, что в 1937-м или в 1938-м, на крайний случай — в 1939-м она должна была стать советским человеком или/и погибнуть, а она не стала, и не погибла: это не чудо, а халтурный недогляд органов и рассеянность (кто знает — вдруг и притворная) судьбы. Чудо — что она написала — что вообще какой-то человек в России тогда мог дойти до такой глубины, чтобы написать — «Софью Петровну».
Где впервые в мировой литературе (за десять лет до Оруэлла) именно это и описано — скрупулезно ясно: как становится человек — советским. То есть существом нового подвида, с мышлением приплюснутым (Набоков это угадал), двумерным. Как человека — и с ним целую страну — день за днем для этого жестоко сводят с ума. Кстати, заметите ли вы, дальние братья из будущего, как странно эта повесть — с таким финалом, что и у Шекспира поискать, — эта повесть, говорю, фактически завершающая русский классический канон, — как загадочно (потому что нисколько не преднамеренно) похожа она на гоголевскую «Шинель»?
Как надо было верить в литературу — как в наивысшую инстанцию вечной справедливости, — чтобы написать такое произведение в полной темноте, под свирепый рев торжествующего злодейства, на скользком краю бездны, в которую только что сбросили любимого человека.
Ей по ошибке оставили жизнь. Она превратила ее в оружие — в смертельно опасный снаряд: она ее всю записала. Болью, как живым зеркалом, отразив доставшуюся ей вселенную. И осветив. Как в стихотворении 1979 года:
Облить себя бензином.
Поджечь себя, как факел.
Мальчишка рот разинул,
А бородач заплакал.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Чтобы вражья сила
Огонь не погасила.
Умела, умела ненавидеть. Умела не прощать. И боготворить. И любить тех, кого любила, — бесконечно. Как сорок тысяч сестер. И даже бывать счастливой: от снега, от гениальных текстов, и если Правде почему-либо выпадала победа.
ГОРЕ УМУ
3 сентября 2007
Сегодня в три пополудни случится событие культурной жизни. На стене одного дома в улице Рубинштейна окажется мемориальная доска. Тут жил Сергей Довлатов. И ему исполнилось бы в аккурат 66.
И во-первых, как жаль, что не исполнилось. Правда, в этом случае не было бы и доски, — ну и пусть. Навесили бы ее потом — скажем, в середине века. А зато — минуя житейские сентименты, — зато не было бы так совестно за литературу.
Которая, мы же видим, ходит по историческому отрезку на цыпочках, всей фигурой выражая: только не обращайте на меня внимания, кушайте, кушайте, а я пристроюсь где-нибудь в уголку.
Довлатов, мне кажется, не позволил бы себе поглупеть ни от старости, ни от славы. Измена уму была для него невозможна.
Хотя ум буквально изводил его: без конца придирался и дразнил, и был недоволен каждой написанной строчкой, не говоря уже обо всем остальном.
Не давал вздохнуть спокойно и решить раз навсегда: я писатель настоящий и притом хороший.
Поэтому Довлатов себя все время переписывал. Стараясь угодить уму: чтобы, значит, ему в тексте жилось удобней. И — по крайней мере, в некоторых вещах — добился странного и очень редкого эффекта: они выигрывают от перечитывания.
И это во-вторых: что все получилось по справедливости: живая слава и — довеском — доска на фасаде Рубинштейна, 23.
Он писал про то, что жизнь — цирк, а люди все — клоуны. Поскольку жил в такое время и в такой стране, где эта метафора — или, если хотите, гипербола — полностью осуществилась. Воплотилась. Реализовалась. В системе маразма и нищеты, непоколебимо прочной ввиду их абсолютного равновесия. Где при малейшей попытке добиться чего-нибудь теряешь больше, чем приобретаешь. И не имеет смысла т. н. труд. Постыдно ничтожен ассортимент призов т. н. судьбы. Смертельно опасна любая т. н. правда. И вообще — быть не дураком нестерпимо: все время тошнит. А когда социализм доходит до такой зрелости, единственное средство — алкоголь.
Погружающий в безумие с остроумием пополам.
Видите ли, существование состоит из поступков и слов. Но в силу данного общественного строя перед каждым обнажилась тщетность поступков. Соответственно, в речевой деятельности возобладал и господствовал вздор. И люди различались главным образом по интонации: произносят ли они вздор серьезно — или же насмехаясь над собой. Или просто в пьяном бреду.
Три сорта вздора — три сорта, три сорта — что в уголовной зоне, что в литературной, с позволения сказать, среде.
Персонажи несут вздор, автор — сортирует. Этот говорит смешно, потому что кретин. А этот говорит смешно, потому что циник. А этот — потому что он в белой горячке.
Во всех случаях содержание высказывания стремится к абсурду. Это искусство для искусства, лагерная самодеятельность.
«Законы языкознания к лагерной действительности — неприменимы. Поскольку лагерная речь не является средством общения. Она — не функциональна.
Лагерный язык менее всего рассчитан на практическое использование. И вообще, он является целью, а не средством…»
Биография Довлатова словно нарочно сложилась так, чтобы открыть ему глаза на роковое сходство двух зон. На смысловую пустоту по обеим сторонам запретки.
Но пустота — она и есть пустота. Медицинский факт, с которым ничего не поделаешь. Всем известный, кроме придурков. Повергающий в отчаяние. Не забавный, сколько ни остри. Уму в пустоте нечего ловить. Ожидая своей очереди кувырнуться на манеж, клоуны потихоньку переговариваются:
«— Мишка, — говорю, — у тебя нет ощущения, что все это происходит с другими людьми… Что это не ты… И не я… Что это какой-то идиотский спектакль… А ты просто зритель…
— Знаешь, что я тебе скажу, — отозвался Жбанков, — не думай. Не думай, и все. Я уже лет пятнадцать не думаю. А будешь думать — жить не захочется. Все, кто думает, несчастные…
— А ты счастливый?
— Я-то? Да я хоть сейчас в петлю! Я боли страшусь в последнюю минуту. Вот если бы заснуть и не проснуться…
— Что же делать?
— Вдруг это такая боль, что и перенести нельзя…
— Что же делать?
— Не думать. Водку пить.
Жбанков достал бутылку…»
Это в-третьих: что Сергей Довлатов не просто писатель. А герой трагической легенды. Символ отчаяния от пошлости. Власть которой в чистом виде и называлась советской.
Он увез это отчаяние с собой в Америку и погиб от его метастазов.
И вот прошло столько лет — а тут опять мочало реет на колу. Снова стиль жизни — бесчеловечная фальшь. В цветных лучах бесстыдного оптимизма красуется небоскреб произвола.
И как будто почти всем хоть бы что. Тексты Довлатова отчасти растолковывают — почему.
А потому что люди довольно легко обходятся без свободы. И способны бесконечно долго молоть и слушать исключительно вздор. Лишь с безнадежным опозданием замечая, что они превратились в клоунов, а их жизнь — в цирк.
ЗАГОН СУРОВ
10 декабря 2007
Покуда, значит, кипит вся эта суета вокруг кумира сего. Как бы это, значит, его передвинуть, не перемещая. Либо переместить, не шелохнув. Не в пространстве, а только во времени. Из пункта Нынче в пункт Навсегда.
Такой безопасный, такой удобный организовать перелет, чтобы ничей зад случайно не выскользнул из заполняемого им гос. кресла. Родного. Нагретого. Притертого. Медом намазанного. Отлакировать его для верности суперклеем «Момент»…