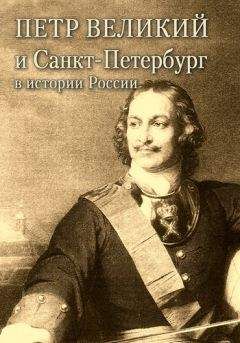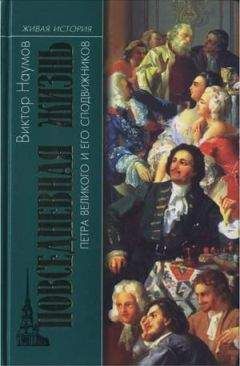Петр Мультатули - Кругом измена, трусость и обман. Подлинная история отречения Николая II
Н. В. Рузский уверяет, что его просили телеграмму вернуть Государю вечером, он эту просьбу собирался выполнить и лично пошёл отнести её Императору, но в этот момент уже приехали думские посланцы и прошли в царский вагон.
В рассказе генералу С. Н. Вильчковскому Н. В. Рузский утверждал, что как только он вышел из царского вагона в 15 ч 10 мин, имея на руках две царские телеграммы (об отречении и назначении нового верховного главнокомандующего, ему тут же вручили телеграмму о предстоящем приезде в Псков А. И. Гучкова и В. В. Шульгина. Рузский вернулся к Государю и доложил ему об этом известии. Государь потребовал одну телеграмму вернуть ему сразу, а вторую чуть позже. Рузский понёс вторую телеграмму Государю, но, «встретив Государя на платформе, предложил её оставить у него до прибытия Гучкова и Шульгина»{928}.
На самом деле о прибытии Гучкова и Шульгина в Пскове стало известно только в начале шестого вечера{929}. Приезд думских посланцев всё время откладывался, и проект манифе ста об отречении Государю не передавался. Во всяком случае, ещё в 21 ч 2 марта проект находился у Н. В. Рузского{930}.
Совокупность воспоминаний и документов, а также существенные разногласия, существующие между ними, позволяют сделать вывод, что между какими-то якобы существовавшими царскими телеграммами (телеграммойот 2 марта и текстом, начинающимся словами «Нет той жертвы, которую я бы не принёс…», нет прямой связи. Н. В. Рузский утверждал, что отдал какую-то телеграмму Государю после того, как тот передал А. И. Гучкову окончательный текст отречения в пользу Великого Князя Михаила Александровича. С. П. Мельгунов считает, что «это — та именно телеграмма, которую Рузский вернул Царю вечером 2 марта»{931}.
Этот вывод является ничем не подтверждённым утверждением. С. П. Мельгунов не может объяснить, зачем генералу Рузскому понадобилось отдавать эту телеграмму Императору Николаю II? В условиях изоляции Государя отдавать ему важный документ было совсем не в интересах ни Рузского, ни Родзянко.
Также непонятно, почему вдруг царь передал телеграмму не 2 марта в Пскове, а 3 марта в Могилёве? Почему М. В. Алексеев вопреки установленным правилам вместо того, чтобы направить телеграмму с сопроводительным письмом для подшивания к делопроизводству, как, например, было с последним обращением Государя к войскам, спрятал её у себя и лишь в августе 1917 г. ознакомил с ней двух людей: полковника В. М. Пронина и генерала А. И. Деникина?
О судьбе второй телеграммы с сообщением об отречении в пользу Наследника, якобы посланной Государем М. В. Алексееву, ничего не известно.
Совсем уж таинственна судьба третьей якобы существовавшей царской телеграммы, о назначении Великого Князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим. Согласно общим утверждениям, Государь подписал указы о назначении своего дяди главнокомандующим и назначении князя Г. Е. Львова главой правительства совместно с «актом» об отречении. Первым об этом после своего разговора с М. В. Родзянко М. В. Алексееву сообщил Н. В. Рузский поздно ночью 2 марта{932}.
Так называемая телеграмма «об отречении» даже в случае подлинности не является объявлением об отречении от престола.
Прочтём её внимательно: «Нет той жертвы, которую Я не принёс бы во имя действительного блага и для спасения родимой Матушки-России».
Во имя «действительного блага и для спасения»… А кто сказал, что отречение — действительно благо и спасение России? Далее: «Посему я готов отречься от престола». «Готов» не означает — отрекаюсь. Готовность может быть растянута во времени. Исполнение может быть отложено. Если бы тот, кто писал текст, хотел бы выразить вполне определенное желание объявить о своем отречении, он написал бы: «я решил отречься от престола». И ещё: «с тем, чтобы (он) остался при нас до совершеннолетия». Совершенно ясно, что если малолетний сын остаётся с отрёкшимся монархом до своего совершеннолетия, то бывший монарх неминуемо будет играть ведущую роль в политической жизни государства. В таком случае отречение является фикцией, и добавление фразы «при регентстве брата моего Великого Князя Михаила Александровича» теряет всякий смысл.
Как мы уже писали, Император Николай II был опытным политиком и юристом. Если бы он действительно составлял текст этой телеграммы, он бы неминуемо эти противоречия устранил, как и не стал бы подавать этот текст в таком виде, с исправлениями и вставками. Император Николай II мог быть автором подобного текста только в том случае, если бы он пытался с его помощью выиграть время и ввести заговорщиков в заблуждение. Но, по всей видимости, царь не имел к этой телеграмме никакого отношения, как и ко всем «документам», вышедшим в Пскове 2–3 марта 1917 г.
Правда, существует версия, пущенная в ход генералом А. И. Деникиным, что эта телеграмма была написана Императором не 2 марта, а уже в Могилёве 3 марта. Генерал А. И. Деникин утверждал, что Государь по своём прибытии в Могилёв после «отречения» сказал М. В. Алексееву: «Я передумал, прошу вас послать эту телеграмму в Петроград». На листе бумаги отчётливым почерком Государя было дано согласие на вступление на престол Цесаревича Алексея. По словам Деникина, Алексеев «унёс телеграмму и… не послал. Было слишком поздно: стране и армии объявили уже два манифеста. Телеграмму эту, „чтоб не смущать умы“, никому не показывал, держал в своём бумажнике, и передал мне в конце мая, оставляя верховное командование. Этот интересный для будущих биографов Николая II документ хранился затем в секретном пакете в генерал-квартирмейстерской части Ставки»{933}.
Итак, перед нами ещё один первооткрыватель телеграммы царя об отречении — генерал А. И. Деникин. Вслед за полковником В. М. Прониным он утверждает, что именно ему генерал М. В. Алексеев отдал хранившуюся у него царскую телеграмму. Правда, в словах А. И. Деникина, как и в словах В. М. Пронина, много сомнительного. Во-первых, 3 марта ничего ещё не было «поздно», так как никакие манифесты об отречении обнародованы не были. Во-вторых, очень странно, чтобы генерал М. В. Алексеев отдал бы такую важную телеграмму генералу А. И. Деникину, которого остро не любил. Достаточно сказать, что на должность начальника штаба Ставки в марте 1917 г. Деникин был назначен по прямому приказу А. И. Гучкова, вопреки настойчивым возражениям М. В. Алексеева. Деникин, конечно, не поделился с читателем текстом этой телеграммы, также как не поведал ему, куда эта телеграмма делалась после того, как Ставка верховного главнокомандования прекратила своё существование.
Таким образом, телеграмма об отречении превращается в некий призрак. Её иногда видят, даже успевают сфотографировать, запомнить, но каждый раз она бесследно исчезает.
Но существуют ещё и другие соображения, по которым Император Николай II не мог отречься в пользу Цесаревича Алексея. Государь не мог не понимать, что внезапная передача престола малолетнему больному сыну будет означать его немедленное вовлечение в игру таких преступных игроков, как Гучков, Милюков, Керенский, Родзянко. Государь не мог строить иллюзий, что ему дадут оставить при себе сына до его совершеннолетия. Он понимал, что, оторванный от родителей, Цесаревич станет игрушкой в руках узурпаторов. Спросим себя, мог ли Император Николай II, столь горячо любивший царевича Алексея, обречь его на подобную участь? Мог ли Император Николай II, который не соглашался доверить Родзянко даже возглавить кабинет министров, мог ли он позволить тем же Родзянко и Гучкову вести страну к катастрофе, прикрываясь именем его сына? Полагаем, что ответ на этот вопрос очевиден.
«Манифест» отречения Императора Николая II в пользу Великого Князя Михаила Александровича
План заговора, предусматривавший отречение Государя, был задуман задолго до февральских событий. Одним из главных его разработчиков бы А. И. Гучков. На допросе в ЧСК он сообщил: «Государь должен покинуть престол. В этом направлении кое-что делалось ещё до переворота, при помощи других сил. […] Самая мысль об отречении была мне настолько близка и родственна, что с первого момента, когда только выяснилось это шатание и потом развал власти, я и мои друзья сочли этот выход именно тем, что следовало сделать»{934}.
О том, что «отречение» было спланировано заранее, говорил и спутник А. И. Гучкова по поездке в Псков — В. В. Шульгин. Уже после переворота Шульгин говорил кадету Е. А. Ефимовскому: «Вопрос об отречении был предрешён. Оно произошло бы независимо от того, присутствовал Шульгин при этом или нет. Шульгин опасался, что Государь может быть убит. И ехал на станцию Дно с целью „создать щит“, чтобы убийства не произошло»{935}.