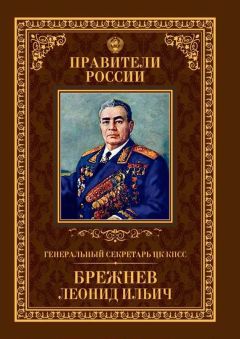Томас Элиот - Назначение поэзии
Здесь мы подходим к различию между классиком относительным и абсолютным, между литературой, которую можно назвать классической по отношению к ее собственному языку, и такой, которая является классичной для ряда других языков. Но прежде я хотел бы указать еще одну сторону классика, помимо перечисленных, которая поможет сформулировать это отличие, и установить разницу между классиком типа Поупа и таким классиком, как Вергилий. Наверное, здесь уместно повторить кое-что из сказанного выше.
В начале доклада я высказал предположение, что одним из признаков зрелой личности часто — а может, и всегда — является сознательный или бессознательный процесс отбора, развитие одних потенциальных возможностей за счет других; и, возможно, в развитии языка и литературы происходит нечто подобное. А если это так, то мы вправе ожидать, что в малой классической литературе, — скажем, английской конца XVII и XVIII веков, — ради обретения зрелости либо будет отвергаться все больше возможностей развития языка, либо эти потери будут особенно ощутимыми. И наше удовлетворение достигнутым всегда будет омрачено мыслью о том, что наработанное предшественниками оказалось похоронено. Классическая эпоха английской литературы не может похвалиться общечеловеческим духом, то есть мы не вправе сказать, что классический дух явлен целиком — ив итоге, как я объяснил, мы все еще можем строить планы на будущее, ссылаясь на тот или иной литературный период. Таков английский язык, он допускает широкие отклонения от общепринятого стиля;
кажется, никакая эпоха и уж конечно никакой писатель не в состоянии установить для него норму. В сравнении с ним французский гораздо сильнее привязан к нормативному стилю. И все же даже в нем — несмотря на то, что он, кажется, раз и навсегда установился в XVII веке — есть esprit gaulois[63], некое изобильное начало, преобладающее в Рабле и Вийоне, которое заставляет нас усомниться в целостности Расина или Мольера, ибо у них оно, мы чувствуем, не только не нашло воплощения, но и было им попросту чуждо. Напрашивается вывод: совершенна та классика, в которой угадывается дух всего народа и которая не может иначе проявиться в языке, как выразив этот дух полно и целостно. Таким образом, в наш список характерных черт классика следует внести и всеохватность. Классика должна в пределах избранной формы выражать по возможности всю полноту чувства, присущего народу, говорящему на данном языке. Она должна представлять его на лучших примерах, и тогда оно найдет широчайший отклик у своего народа, у людей разных классов и разного общественного положения.
Когда литературное произведение является вехой в своем языке и сверх того имеет столь же общее значение для ряда иностранных литератур, мы можем сказать, что оно обладает универсальностью. Можно, например, с достаточным основанием говорить о поэзии Гете как о классике, ибо она занимает очень высокое место в своем родном языке и литературе. Но все же из-за ее однородности, некоторой старомодности содержания и германского рода чувствительности, из-за того, что Гете кажется иностранцу ограниченным своей эпохой, своим языком и своей культурой, — настолько, что он не может представлять всю европейскую традицию, — и, подобно нашим писателям XIX века, несколько провинциален, мы не можем назвать его универсальным классиком. Он универсальный автор в том смысле, что с его работами должен познакомиться каждый европеец, — но это другое. И в итоге у нас нет шанса найти что-то близкое к классику ни в одном современном языке. Надо обращаться к двум мертвым языкам, — это важно, что они мертвые, поскольку мы через их смерть обрели свое наследство; в том, что они мертвые, нет ничего ценного, кроме одного: все народы Европы — их иждивенцы.
И из всех великих поэтов Греции и Рима, я думаю, именно Вергилию мы обязаны нашим стандартом классика, что, повторяю, вовсе не значит выдавать его за величайшего поэта или такого, кому мы во всех отношениях обязаны. Я говорю лишь о своеобразном долге. Совершенно особая широта Вергилиевой классики — следствие того уникального положения, которое занимает в нашей истории Римская империя и латынь, — положения, соответствующего их судьбе. Этот смысл судьбы обретает ясность в "Энеиде". Сам Эней от первого до последнего вздоха — "человек судьбы": не авантюрист, не интриган, не бродяга, не карьерист, — он исполняет предначертанное ему судьбой не по принуждению или случайному указу, и уж конечно, не из жажды славы, а потому что волю свою подчинил некой высшей власти, стоящей над богами, способными разрушить его планы или, наоборот, направить на верный путь. Он предпочел бы остаться в Трое, однако становится изгнанником, и не просто изгнанником — он теряет родину ради великой цели, постичь которую разумом не может и все равно принимает, — и нет ему отныне в жизни ни счастья, ни удачи. Он — символ Рима, и что для Рима Эней, то же самое для Европы Древний Рим. Так Вергилий приобретает уникальное значение отца классики: он — сердцевина европейской цивилизации, и никакой другой поэт не может с ним соперничать или претендовать на его место. Римская империя и латинский язык были не просто одной из империй, одним из языков, — это были империя и язык с уникальной судьбой по отношению к нам, потомкам, и поэт, в ком эта империя и этот язык обрели сознание и выражение, является поэтом редчайшей судьбы.
А раз Вергилий — олицетворенное сознание Рима и высшее выражение его языка, то одними литературными оценками и критикой не исчерпать того фундаментального значения, которое он для нас имеет. Но даже и оставаясь в пределах литературы, или держась пограничной области литературы и жизни, мы едва ли сумеем выразить словами все, что думаем о значении Вергилия. Он задал критерий — в этом его главная заслуга. Повторяю, мы можем радоваться тому, что критерий этот задан поэтом, писавшим на чужом языке; но это не основание, чтобы его отвергать. Сохранять классический образец и соотносить с ним каждое конкретное литературное произведение — значит осознавать, что хотя наша литература в целом, возможно, и обладает полнотой, но каждому отдельному произведению наверняка чего-то недостает. Недостаток этот может быть закономерным: не будь его, не реализовалась бы какая-то важная сторона произведения. Главное же, чтобы, сознавая закономерность недостатка, мы все-таки воспринимали его именно как изъян. Без классической меры, о которой я говорю, — а она теряется, если смотреть только с позиции своей родной литературы, — мы начинаем брать с потолка оценки гениальных поэтов, — например, хвалим Блейка за его философию и Хопкинса за стиль. И постепенно приходим к еще большему заблуждению, смешивая второстепенное с первоклассным. Короче, без привычки постоянно соотносить явления литературы с классической мерой мы делаемся провинциальными.
Под "провинциальностью" я понимаю нечто большее, чем нахожу по словарю. Для меня это не только "отсутствие столичной культуры или столичного лоска", которых, кстати сказать, в Вергилии, уроженце римской цивилизации, было больше, чем в любом из поэтов последующих веков, равном ему по стати. И разумеется, для меня это не только "ограниченность мышления, узкий культурный кругозор, нетерпимость в вопросах веры", ибо это скользкое определение: по нему и Данте, с точки зрения современного свободомыслящего человека, "недостаточно широк по мысли, культурному кругозору, нетерпим в вопросах веры", хотя еще неизвестно, кто ограниченнее, кто провинциальнее — сторонник многобожия или приверженец одной веры. Для меня это также и искажение ценностей, когда одни ценности отрицаются, другие раздуваются, и происходит это не из-за узости, так сказать, географического мышления, а оттого, что стандартами, приобретенными в ограниченной области, меряют весь человеческий опыт. Смешивают мелкое с существенным, сиюминутное с вечным. В наш век люди, кажется, как никогда склонны путать знания — с мудростью, простую информированность — со знанием, и проблемы жизни решать по-инженерному. И рождается новый вид провинциализма, заслуживающий, пожалуй, другого названия. Провинциализм не местоположения, а времени, для которого история — лишь смена орудий, отслуживших свое и выброшенных на свалку, для которого мир является безраздельной собственностью живущих, собственностью, в которой мертвые не имеют доли. Угроза такого провинциализма в том, что все мы, все народы на земле рискуем вместе стать провинциалами, а тем, кто не хочет быть провинциалами, остается только быть отшельниками. Если бы этот провинциализм делал людей более терпимыми, более великодушными, в нем еще что-то, может, и было бы. Но, похоже, он делает нас равнодушными в тех вопросах, в которых нам следовало бы держаться четких принципов или стандартов, и, наоборот, увеличивает нашу нетерпимость в вопросах, которые можно спокойно предоставить решать местному и личному вкусу. Пусть у нас будет сколько угодно разновидностей религии при одном условии: все мы посылаем наших детей учиться в одни и те же школы. Но меня здесь интересует только противоядие провинциализму в литературе. Мы должны напоминать себе, что Европа — это целое (и несмотря на прогрессирующие разрушения и уродство, по-прежнему зародыш любой будущей более мировой гармонии). И точно так же европейская литература — целое, отдельные члены которого не могут расцвести, если по всему телу не циркулирует один и тот же поток крови. Кровеносный поток европейской литературы — латынь и греческий, существующий как единая кровеносная система, ибо свое греческое происхождение мы осознаем через Рим. Какая же в наших разноязыких литературах еще другая общая мера мастерства, как не классическая? Какое еще взаимное понимание мы можем надеяться сохранить, как не наше общее наследие мысли и чувства в этих двух языках, в понимании которых ни один европейский народ не имеет преимущества перед другими? Ни один современный язык не может претендовать на всеобщность латыни, даже если на нем заговорят больше миллионов человек, чем когда-либо говорили на латыни, и даже если он станет универсальным средством общения между народами разных языков и культур. Ни один современный язык не может надеяться создать классика в том смысле, в каком я назвал классиком Вергилия. Наш классик, общеевропейский классик — это Вергилий..