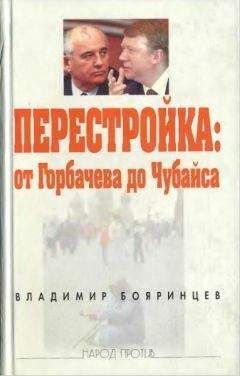Соломон Волков - Диалоги с Иосифом Бродским
СВ: Конечно, там есть два плана: реальный и биографический — Ахматова и судьба ее арестованного сына; и символический — Мария и ее сын Иисус.
ИБ: Для меня самое главное в «Реквиеме» — это тема раздвоенности, тема неспособности автора к адекватной реакции. Понятно, что Ахматова описывает в «Реквиеме» все ужасы «большого террора». Но при этом она все время говорит о том, что близка к безумию. Помните?
Уже безумие крылом Души закрыло половину, Поит огненным вином И манит в черную долину.
И поняла я, что ему Должна я уступить победу, Прислушиваясь к своему Уже как бы чужому бреду.
Эта вторая строфа, быть может, лучшая во всем «Реквиеме». Здесь самая большая правда и сказана:
«Прислушиваясь к своему,
Уже как бы чужому бреду».
Ахматова описывает положение поэта, который на все, что с ним происходит, смотрит как бы со стороны.
СВ: Это как у Саши Черного: «У поэта умерла жена…»
ИБ: Отчасти. Потому что, когда поэт пишет, то это для него — не меньшее происшествие, чем событие, которое он описывает. Отсюда — попреки самого себя, особенно когда речь идет о таких вещах, как тюремное заключение сына или вообще какое бы то ни было горе. Начинается жуткий покрыв самого себя: да что же ты за монстр такой, если весь этот ужас и кошмар еще и со стороны видишь. Но ведь действительно, подобные ситуации — арест, смерть (а в «Реквиеме» все время пахнет смертью, люди все время на краю смерти) — так вот, подобные ситуации вообще исключают всякую возможность адекватной реакции. Когда человек плачет — это личное дело плачущего. Когда плачет человек пишущий, когда он страдает — то он как бы даже в некотором выигрыше от того, что страдает. Пишущий человек может переживать свое горе подлинным образом. Но описание этого горя — не есть подлинные слезы, не есть подлинные седые волосы. Это всего лишь приближение к подлинной реакции. И осознание этой отстраненности создает действительно безумную ситуацию. «Реквием» — произведение, постоянно балансирующее на грани безумия, которое привносится не самой катастрофой, не утратой сына, а вот этой нравственной шизофренией, этим расколом — не сознания, но совести. Расколом на страдающего и на пишущего. Тем и замечательно это произведение. Конечно, «Реквием» Ахматовой разворачивается как настоящая драма, как настоящее многоголосие. Мы все время слышим разные голоса — то простой бабы, то вдруг — поэтессы, то перед нами Мария. Это все сделано как полагается: в соответствии с законами жанра реквиема. Но на самом деле Ахматова не пыталась создать народную трагедию. «Реквием» — это все-таки автобиография поэта, потому что все описываемое — произошло с поэтом. Рациональность творческого процесса подразумевает и некоторую рациональность эмоций. Если угодно, известную холодность реакций. Вот это и сводит автора с ума.
СВ: Но разве в этом смысле «Реквием» не есть именно автобиографический слепок с ситуации, в которой, как я понимаю, присутствовало определенное равнодушие Ахматовой к судьбе собственного сына?
ИБ: Нет, равнодушия в жизни как раз не было. Равнодушие — если это слово вообще здесь применимо — приходило с творчеством. Анна Андреевна мучилась и страдала из-за судьбы сына невероятно. Но когда поэтесса Анна Ахматова начинала писать… Когда пишешь, то стараешься сделать это как можно лучше. То есть подчиняешься требованиям музы, языка, требованиям литературы. А лучше — это не всегда правда. Или: это правда большая, чем правда опыта. То есть ты стремишься создать трагический эффект тем или иным образом, той или иной строчкой и невольно как бы грешишь против истины: против собственной боли.
СВ: Лев Николаевич Гумилев, сын Ахматовой, не раз упрекал ее в том, что она о нем заботилась недостаточно — и в детстве, и в лагерные его годы. Помню, я разговаривал со старым латышским художником, попавшим в лагерь вместе со Львом Гумилевым. Когда я упомянул Ахматову, его лицо окаменело и он сказал: «От нее приходили самые маленькие посылки». Я как будто услышал укоряющий голос самого Гумилева.
ИБ: Это все, конечно, дела семейные, но что правда, то правда: он ее упрекал. И он сказал ей как-то фразу, которая Ахматову чрезвычайно мучила. Я думаю, эта фраза была едва ли не причиной ее инфаркта; уж во всяком случае, одной из причин. Это не точная цитата, но смысл слов Гумилева был таков: «Для тебя было бы даже лучше, если бы я умер в лагере». То есть имелось в виду — «для тебя как для поэта». Даже если это было бы правдой и это сказал бы старый друг, и то первая мысль была бы: «Ну и сволочь ты все-таки». Но ведь это сын говорит! Что называется — додумался. Лев Николаевич в заключении провел восемнадцать лет, и эти годы его изуродовали. Он, видите ли, решил, что после того, чего он там натерпелся, — все ему можно, все наперед прощено. Такое происходит иногда с побывавшими в лагерях. Но и отсидевшие, и никогда не сидевшие под тем же самым человеческим законом ходят: «не рань». В случае со Львом Николаевичем, вероятно, еще всякие психологические нюансы наслаиваются. Прежде всего он был — в отсутствие отца — мужчиной в семье. А она, хоть и мать, и поэтесса, и Ахматова, но тем не менее — женщина. И поэтому он как бы может сказать ей все, что ему заблагорассудится. Это все, конечно, Фрейд для бедных, но так он свое мужское начало, видать, проявлял. Я об этом довольно много думал в свое время, обо всей этой истории и о «Реквиеме». Не по себе мне от всех этих разговоров наших об этом — и Анна Андреевна первая мне бы не простила, что встреваю, — но сын тут не на высоте оказался. Этой фразой про «тебе лучше» он показал, что дал лагерям себя изуродовать, что система своего, в конце концов, добилась.
СВ: Я думаю, что попытки озвучить «Реквием» будут продолжаться.
ИБ: Музыка, боюсь, может сообщить этому тексту только аспект мелодрамы. Его, «Реквиема», драматизм не в том, какие ужасные события он описывает, а в том, во что эти события превращают твое индивидуальное сознание, твое представление о самом себе. Трагедийность «Реквиема» не в гибели людей, а в невозможности выжившего эту гибель осознать. Мы привыкли к идее о том, что искусство как-то реагирует на события реальной жизни. Но не только на Хиросиму, но и на более мелкие происшествия реакция исключена. Иногда удается создать какую-то формулу, которая выражает состояние шока перед ужасом действительности. Но это счастливое — и только для репутации автора — совпадение. Какая-нибудь «Герника», например.
СВ: В 1910 году в Париже молодая Анна Ахматова познакомилась с Амедео Модильяни. Она только начинала как поэтесса, он был уже зрелым художником. Но из воспоминаний Ахматовой об их романе явствует, что понимание того, что делал Модильяни, пришло к ней задним числом.
ИБ: Вы знаете, вполне возможно. Но так это и должно быть в любви. Это гораздо лучше, гораздо естественнее, чем наоборот. В воспоминаниях Ахматовой о Модильяни речи о живописи не идет. Это просто личные отношения двух людей.
СВ: Существует рисунок Модильяни (вероятно, 1911 года), изображающий Ахматову. По словам Ахматовой, этих рисунков было шестнадцать. В воспоминаниях Анны Андреевны о судьбе рисунков сказано не совсем понятно: «Они погибли в Царскосельском доме в первые годы революции». Анна Андреевна говорила об этом подробнее?
ИБ: Конечно, говорила. В доме этом стояли красногвардейцы и раскурили эти рисунки Модильяни. Они из них понаделали «козьи ножки».
СВ: В ахматовском описании этого эпизода чувствуется какая-то уклончивость, необычная даже для Анны Андреевны. Она понимала ценность этих рисунков? Может, она сама их по ветру пустила?
ИБ: Ну с какой стати! Бумаги у нее в доме, я думаю, всегда хватало — в конце концов, она стихи писала. Нет, видимо, это произошло в ее отсутствие.
СВ: Вам кажется, что отношения Ахматовой с Модильяни были для нее важны?
ИБ: Как счастливое воспоминание — безусловно. Анна Андреевна, после того, как дала мне прочесть свои записки о Модильяни, спросила: «Иосиф, что ты по этому поводу думаешь?». Я говорю: «Ну, Анна Андреевна… Это — „Ромео и Джульетта“ в исполнении особ царствующего дома». Что ее чрезвычайно развеселило. Оценивать сейчас тогдашние отношения Ахматовой и Модильяни — дело сложное и, скорее всего, ненужное. Юная Ахматова, заграничная жизнь. В ту пору о себе она имела чрезвычайно смутные представления. Просто человек живет и мало ли чего представляет себе про будущее. В бытность Ахматовой в Париже за ней не только Модильяни ухаживал. Не кто иной, как знаменитый летчик Блерио… Вы знаете эту историю? Не помню уж, где они там в Париже обедают втроем: Гумилев, Анна Андреевна и Блерио. Анна Андреевна рассказывала: «В тот день я купила себе новые туфли, которые немного жали. И под столом сбросила их с ног. После обеда возвращаемся с Гумилевым домой, я снимаю туфли — и нахожу в одной туфле записку с адресом Блерио».