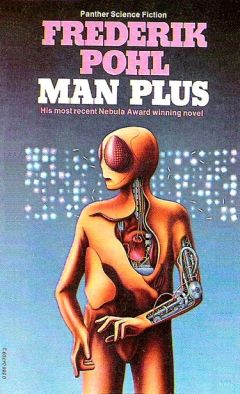Лев Аннинский - Русские плюс...
Так что для великой культуры мало великих потрясений, нужна еще и щель, где эти потрясения можно было бы осмыслить. Великие песни слагаются не в битвах, а в передышках между битвами, сказал, кажется, Константин Леонтьев.
Это существенно: не в конце битвы и не после битвы, а в передышках…
Но пока — о том, как видит русскую жизнь и русскую душу израильский писатель Амос Оз:
«Если в одной комнате собираются три-четыре человека, наверняка происходит нечто такое, чему нет аналога ни в одной другой точке земного шара. У нас не ведут вежливых, необязательных разговоров. О, конечно же, и у нас говорят о футболе, бирже и зарплате, но затем, когда тонкий слой этих проблем бывает исчерпан, разговор не становится тривиальным. Люди говорят об очень важных вещах… Говорят о смысле жизни. У нас не говорят о политике, как, к примеру, в Америке, в Англии или в Германии: какая из партий мне лично удобна в качестве правящей, кто сумеет обеспечить лучший порядок в стране? Наши разговоры о политике — это разговоры о Жизни и Смерти, о Культуре, о Смысле Жизни. Наша беседа может начаться со сплетен: Бегин таков, Перес таков, а уж Рабин и вовсе таков! Но если беседа затянется заполночь, она превращается в метафизическую, даже если собеседники не знают, что такое метафизика. Либо она становится религиозной, хотя ее участники иногда и думают, что с религией у них ничего общего».
Мне надо сделать усилие, чтобы вспомнить, что это не о русских. Замените имена, скажите: Ельцин таков, Зюганов таков, а уж Жириновский и вовсе таков — и перед вами точный портрет классического «русского спора». Американцы говорили мне, что только в России они могут, сев за стол даже с незнакомыми людьми, обсуждать «вечные вопросы», миновав ритуальные темы о погоде, о том, «какой счет» и каков курс доллара. Американцам ведь тоже хочется — о Смысле Жизни. Но в Америке так нельзя — на то в Америке есть специальные симпозиумы.
У нас — все можно. «За каждым углом».
И в Израиле тоже?
Поразительно. А я думал, что русские и евреи несхожи.
Не потому ли однако эти народы сцепились за последние двести лет в такой странный альянс (и не это ли отчасти — причина того двухсотлетнего «перерыва» в еврейской истории, о котором жалеет Амос Оз)? И не потому ли еврею, приехавшему в Израиль из России, так трудно вписаться в узкий ближневосточный «театр действий», что он покинул «всю вселенную», которую «проезжал» (мысленно или реально), ухая по проклятым русским дорогам?
Лет за десять до того, как появились «Иерусалимские размышления» Амоса Оза, в том же журнале «22» (тогда ходившем по Москве тайно, запретно) мне стали попадаться статьи Нелли Гутиной. Теперь ее израильский стаж четверть века; тогда она была новоселка. Так вот: тогда меня поразил ее пафос: из всемирного еврейства стать ближневосточным народом; войти в ближневосточный «клуб»… Призрак крестоносцев, сброшенных в море прежде, чем они справили столетний юбилей своего государства, мучил эту «ханаанку» Оттепельного призыва. И все-таки она говорила: надо вживаться заново.
Теперь, в сотом номере того же журнала «22» та же Нелли Гутина продолжает темпераментно подталкивать вчерашних «евреев» в новый Израиль; сотни тысяч новоселов из «русской алии» неуверенно тычутся в израильскую жизнь, не зная, куда деть им свою русскую, свою советскую, свою русско-еврейскую, еврейско-советскую ментальность. Надо входить в израильскую политическую жизнь. Надо становиться израильтянами.
А евреи, оставшиеся в России, в эту же пору мучительно решают вопрос: кто они? Надо переставать быть евреями, надо становиться русскими. Инстинкт духовного самосохранения подсказывает им идею: они — не евреи, но и не русские. Они — «русские евреи». Особый народ в составе России, особая струна в оркестре русской культуры.
Идея здравая и своевременная: в оркестре царит контрапункт; перекликаются сольные партии; казаки, сибиряки и уральцы, окающие волжане и южнорусские носители суржика, питерцы и москвичи — все хотят не слияния в общем «тутти», а — чтобы каждая струна была слышна. Так что «русские евреи» не одиноки в этом стремлении.
Но как это трудно.
Не так давно я послал в Тель-Авив моему старому другу режиссеру Станиславу Чаплину выпуск армяно-еврейского журнала «Ной», где помещена моя статья о переписке Эйдельмана с Астафьевым с очередными вариациями вышеописанных «ассимиляторских» идей.
Чаплин увлекся, стал показывать эту статью соотечественникамизраильтянам и отписал мне реакцию.
«Тебя обвиняют в лицемерии и приспособленчестве».
Узнаю темперамент… И, разумеется, признаю. Да, приспособляюсь к той жизни, которую сам выбрал, и, разумеется, лицемерю — с точки зрения тех, кто искренне выбрал другое.
«Мы здесь горячо спорим с ними, мы — за твою логику, если представить себе еврея в другой стране…»
Вот! Тут-то и зарыта собака. «В другой»! А если — не в «другой», а в «своей»?
«Если говорить честно, то не радует усиление русской общины: не хотим, чтобы она превращала нарождающуюся израильскую культуру в русскую».
А за честность вам спасибо, товарищи бойцы… Собака, которая тут зарыта, есть русская культура. Я тоже не хотел, чтобы она превращалась во что-то другое. Ее выбрал… Вы меня понимаете?
Теперь о том, что выбрали вы.
Народившийся народ Израиля — нормальный, крепко стоящий на своей земле, этнически монолитный народ, отрясший тысячелетние страдания, ненавидящий самую память о галуте.
Какую культуру он создаст?
Великая культура рождается от великого страдания.
Усадьба — не убежище, это лишь место исполнения. Всегда найдутся желающие сжечь библиотеку Блока и выбросить в окно рояль Чайковского. Так о чем мечтать? О библиотеке и рояле или о том, как выразить в словах и звуках трагедию жизни, в том числе и безумие тех, из-за которых культура висит на волоске?
А она висит на волоске — всегда. Можно ждать, когда «этот ужас» кончится, — и дождаться другого ужаса.
Амос Оз вспоминает русских гениев, полагая, что они творили в конце одной эпохи и в начале другой. Вот так же и израильтяне, — говорит он, — при начале времен… Но упование на конец дурных времен и на начало добрых старая русская иллюзия: вот только добьем самодержавие, вот только похороним капитализм… Вся коммунистическая эйфория — попытка приблизить светопреставление: все — до основанья, а затем…
А затем — трезвеем на том пожарище, что спьяну запалили. И культуру тщимся вырастить заново, да на том же диком поле: «скифском», «папуасском» (термины — из Блока).
Но дикий скиф страдает так же, как и страшащийся его утонченный европеец. И папуас так же мучается, как самый изысканный цивилизатор, он только сказать не умеет, выразить не может, записать не пытается.
Евреи стали великим народом, потому что сумели сказать, выразить, записать — и сохранили опыт, через тысячелетия пронесли — Книгу. Уже сам факт — победа над мировым хаосом.
Не бывает ни конца времен, ни начала, бывают только выделенные сюжеты с началом и концом, а жизнь — бесконечное и неразрешимое мучение, смысл которого открывается (или скрывается) ежемгновенно. Тысячи лет — масштаб этих мгновений, и этот масштаб лишь выявляет бесконечность. Что и продемонстрировал всему миру народ Книги.
Будет ли Книга продолжена усилиями маленького средиземноморского народа? То есть: создаст ли он новую версию великой культуры?
Амос Оз говорит:
«Я не знаю…»
Если «знать» — наверняка не создаст. Великая культура не создается специально, она — коррелят великой истории. «Не приведи мне жить в великую эпоху»… «Да минет меня чаша сия»… «Господи, пронеси».
Собственно, у меня нет никакого права рассуждать в этом духе о народе, который борется за свое государство на краешке далекого моря. Я стою на другом берегу и созерцаю другое пепелище.
Только в сердце стучит — так же.
КАКОЙ СМЫСЛ ПОМНИТЬ, КОГДА МОЖНО ЗАБЫТЬ?
Уж кто-кто, а Аарон Аппельфельд мог не стыдиться своей биографии, хотя совпала она изначально с Катастрофой. Он не брел покорно в толпе обреченных — сопротивлялся. Из гитлеровского концлагеря — бежал. Три года скитался по Украине, скрываясь от карателей, пока в 1944 году не пришли русские. Больше не скрывался — наступал. Научился у победителей русскому мату, но не перестал быть евреем.
Ему было восемь лет, когда все это началось.
Ему было четырнадцать, когда в первый послевоенный год он добрался до Палестины. Там он начал другую жизнь — с нуля. С ивритского букваря. Появилась возможность забыть прошлое, зачеркнуть, выбросить из памяти.
Он не забыл.
Впрочем, пробовал забыть — как и большинство евреев, в полумертвом состоянии вывалившихся из фашистской мясорубки и доставленных на пустынный палестинский берег. Они спаслись от смерти — теперь им надо было спастись от презрения.
![Роман Терехов - Безымянный мир [начало]*](/uploads/posts/books/no-image.jpg)