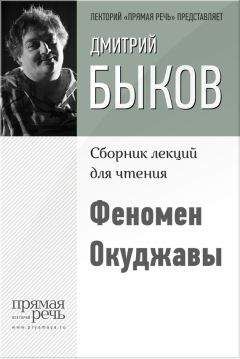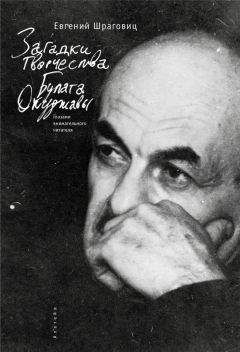Станислав Рассадин - Книга прощания
Коли так, их можно было понять: стоило сопоставить его Гамлета и Полониев-Клавдиев неистребимо провинциального уровня. И вот уж где – говорю о работе Рецептера – не было и следа инфантильности, отметившей замысел спектакля по Аксенову. При том, что у этого датского принца дрожали пухлые губы губошлепа-мальчишки, в уголке глаза копилась готовая капнуть слеза, – так он был подавлен страшной правдой, которая не укладывалась в полудетские (но оттого ведь не менее справедливые!) представления о мироустройстве. Это лицо мне и вспоминать нет нужды: гляжу на фото размахом во всю страницу – им сопроводили мою статью, которую я, едва воротившись в Москву, предложил журналу «Театр».
Вряд ли авгуры театроведения поверили восторгам начинающего критика в адрес еще никому не известного актера, но сам ташкентский «Гамлет», вскоре привезенный в Москву и показанный на сцене Малого, произвел впечатление. Самим Гамлетом. «Семнадцать театров предложили мне перейти в их труппы!…» Все, однако, решил звонок Товстоногова.
Нельзя сказать, что Рецептер попал в любимчики к Мастеру. Хотя… Одна из законодательниц питерской театральной моды пересказывает свой разговор с Товстоноговым. Он:
– Ну, как вам Рецептер?
Она:
– По-моему, он очень талантлив.
– Талантлив? Это не то слово!
Да и – Чацкий, пусть в качестве «ввода», Петр в классических «Мещанах», Рюмин в «Дачниках», Тузенбах,
Эраст в «Бедной Лизе»… Избыточно для того, чтобы актер с нормальным самоощущением (потому что кто из них, самых удачливых, сыграл хоть половину того, на что имел право рассчитывать?) мог не считать себя неудачником. Тем более – отщепенцем. Но это – с нормальным.
Рецептер рано начал топорщиться. Взбрыкивать.
Его лучшая проза, «Ностальгия по Японии», «гастрольный роман», и начинается эпизодом, когда он, назначенный в спектакль «Амадей» на роль выбывшего по душевной болезни Григория Гая, вдруг отказывается влезать в костюм, шитый не на него. Да, Гай – его друг. Да, спектакль Рецептеру-пушкинисту противен: почему играют не гениальную пьесу Пушкина, а «ихнего» Шеффера? Да, обидно, когда «не артист – к роли, а фигура – к костюму». Но цена упрямства – отказ от гастролей в Японии, куда хочется нестерпимо!
Однако в этом упрямстве есть что-то помимо названных – немаловажных – причин.
Что? Да ясно: все та же неизбежная (?) зависимость любого (?) артиста от той жесткой системы, которой и является театр. Всякий, не только такой, каким был БДТ Товстоногова.
(Хороший ответ, данный, как говорят, Юрием Григоровичем на вопрос, должен ли быть театр авторитарным: «Нет! Только тирания!»)
«Стыдно быть старым артистом», – не единожды вспомнит автор «Ностальгии…» слова артиста Ханова (перекликнувшееся со строчками Межирова: «До тридцати – поэтом быть почетно и срам кромешный – после тридцати»), Звучит почти как: «Стыдно быть старым», да так оно, в общем, и есть, когда речь о профессии, изначально зависимой. Поэт может зависеть от публики, а артист не может от нее не зависеть – притом, в отличие от поэта, от ее непосредственной реакции.
Не зря же и Пастернак, сказав, что «старость – это Рим», вспомнил как раз «актера», который оправдывает эту самую старость только «гибелью всерьез». Не «читкой». Не самим по себе актерством.
Независимость и ее многообразные ущемления - вот, может быть, главный двигатель ряда стихотворений и, по сути, всей прозы Рецептера – да что там, самой судьбы его.
Актерство, «читка» начинает казаться чем-то вроде предельно чуждой ему партийности, и уже не очень забавно становится при чтении «Ностальгии…», полной актерских баек, когда речь заходит о славном и милом Стржельчике, «ради дела» вступившем в КПСС («Что делать, Слава… Надо же подумать о театре!…»). И совсем не забавно, какие речи начал в конце концов толкать опартбилеченный «Стриж», к нему призывать, кого клеймить по призыву и по приказу…
Положим, Рецептеру долго удавалось как-то выходить из неуютного положения. Радостью единоличника были моноспектакли: «Маленькие трагедии», «Лица» по Достоевскому, а в первую голову – «Гамлет», нашумевший в Питере и Москве (в зале Чайковского делал битковые сборы, из коих, помню, артисту уделялись 14 р. – двойная актерская ставка, и я тогда по-дружески ревновал, прикидывая: а сколько на круг перепадает, скажем, хору имени Пятницкого, собирающему тот же самый аншлаг?).
Вопрос: завали Мастер свою «одну семидесятую» работой, не отними того же принца Гарри – свернула б «семидесятая» с накатанной колеи?
Предполагаю: свернула бы. Сворачивала. Уже в стихотворной книге середины семидесятых автор не зря завидовал Несчастливцеву и Счастливцеву, поневоле свободным от «антрепренеров»:
И я бы с вами, с вами,
в жару или пургу,
с котомкой за плечами –
да выбрать не могу
меж Вологдой и Керчью,
рапирой и щитом,
котомкою и печью,
героем и шутом…
«Актер уходит из актеров…» – начиналось соседнее стихотворение, пусть еще явно не автобиографическое, но вот уже и личная ситуация:
Не придавай значенья тому, как я шучу.
Двугорбого терпенья набраться я хочу.
Ты видишь, перемены
судьба мне не дала:
вновь от стола до сцены,
от сцены до стола.
Впрочем, «уйти из актеров», сделав решительный выбор, было мучительно, страшно; неопределенность рождала депрессию, и вот уже – или, скорее, еще, решение назревает, но тормозится – в конце семидесятых годов мой друг Юрий Давыдов сообщает в письме:
«Приехал в Пермь, узнал, что там БДТ, нашел Волика с Ирой, привел к своим друзьям, сидели до утра. Волик, по-моему, не то чтобы грустен или даже печален, а как бы пришиблен жизнью»…
Между прочим, пишущий артист – явление всегда странное.
«Талантливый человек талантлив во всем» – сомнительная сентенция, чаще всего оправдывающая дилетантизм. «Скрипка Энгра» (или Эйнштейна) как доказательство гармоничности бытия чьей бы то ни было личности – неубедительна; меня при восторженных ссылках на побочные дарования тянет за язык желание нелогично добавить: были ведь еще и фортепиано Гейдриха или Жданова, отнюдь не влиявшие благотворно на палаческие натуры этих подручных Гитлера и Сталина.
Многоипостасностъ, скорее; подозрительна – в том смысле, что возникает сомнение: не означает ли тяга в иные сферы неосуществленность, а то и несостоятельность в первой и главной? Вообще – что поделать! На дворе – не эпоха Леонардо, XX век и, быть может, тем более начавшийся XXI – века профессионализации и секуляризации (да, впрочем, и XIX – тоже. О феноменальном Алексее Хомякове, чьи таланты исчисляются чуть не десятками, – можем ли даже о нем сказать, что он в философии равен Владимиру Соловьеву, а в поэзии – Тютчеву?).
Так вот. О Рецептере не скажешь, будто он абсолютный первач в любом из своих проявлений. Но, отметив – по справедливости! – что этот артист, режиссер, прозаик, поэт, пушкинист, так называемый организатор культуры (да не позабыл ли я чего-то еще?) стал необходимой фигурой нашего, выразимся скромно, культурного обихода, отмечу и то, что эта почтенная сумма еще не является чем- то поистине уникальным. А ведь есть основания говорить и о некоем, представьте себе, феномене этого десятиборца культуры.
Отважно жертвуя чувством юмора, назову-ка это психологической реинкарнацией. Впрочем, снижая пафос, лукаво добавлю: независимо – ну, почти так – от того, что сам в приятельском общении нет-нет да и наблюдаю неизжитые племенные черты артиста. Актера…
«Холодным пламенем» назвала Ахматова (к Рецепте- ру, кстати, благоволившая) «лайм-лайт», попросту – свет театральной рампы; назвала как символ публичности, для поэта соблазнительной и опасной. Есть и другой вариант, жестче: «позорное пламя», и вряд ли «позорность» связана всего лишь с «позорищем», в смысле старинном и безобидном – со «зрелищем». Скорее уж смысл стихотворения 1960 года «Читатель» можно сопрячь с отзывом Анны Андреевны о молодых поэтах пятидесятых-шестидесятых, завоевавших эстрадную, даже стадионную славу. Это, сказала она, «другая профессия». Другой успех. Другая цена его.
Конечно, «позорное» – экспрессия преувеличения, объяснимого, может быть, тем, что Ахматова словно бы приложила не свой, чужой выбор судьбы – и «профессии» – к себе самой. Приложила – и ужаснулась. Говоря ж без экспрессии, как оно и сказалось в окончательном варианте стихов, «позора» в тяге к «лайм-лайту» нет; «другая профессия» в свое время даже свершила и объективно доброе дело…
Стоп. Об этом куда обстоятельнее поговорим, когда возникнет основательный повод, в главе «Мы, я и Евтушенко», пока только застолбив наблюдение, что поэтическое первородство, случается, уступает свое место профессиональному самоощущению артиста. Той самой зависимости от сиюминутного читательского… Да нет, уже слушательского, зрительского приема. Пока же – что из этого следует в отношении Рецептера как прозаика и стихотворца?