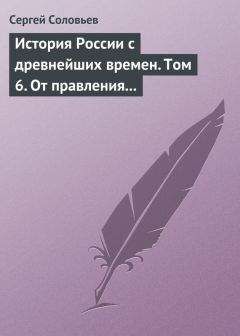Василий Белов - Когда воскреснет Россия?
— Дура лешева! От его, сотоны, и пошла вся беда! Диво дивное, никто его, беса, не может стрылить-то!
Нет, не пожалели бы, не поплакали бы мои старушки о Горбачеве, если бы его «стрылили» где-нибудь в темном подъезде. Живут они в домах, срубленных еще в прошлом веке. Летом еще ничего, дров надо не так много. А каково им зимой, господин Вяхирев? Дрова берегут, воду экономят даже на умывании. Лекарств нет и в помине. Медиков тоже нет. Пенсии хватает еле-еле на черный хлеб. (На белый хватает лишь инвалидам войны.) «Иной и на войне-то не бывал, — говорит Марья, — а пензию весь мильен огребает…»
У Марьи сыновей нет, у нее две дочери. Одна в Вологде, вторая за военным в Мурманской области. У других старух детки кто в Самотлоре, кто где-нибудь в Архангельске.
«Друзья! — хочется мне обратиться с ним. — Сыновья вчерашних крестьян газовики, шахтеры, нефтяники! Одумайтесь, что вы делаете? Вы же грабите родной дом, в котором родились! Вы гоните газ австрийцам и немцам, чуть ли не до Ла-Манша, а ваши родные бабки клянчат в колхозе трактор, чтобы привезти волочугу дров. Последние рубли отдают сперва в контору, потом еще и пьяницам, чтобы привезли эти дрова из лесу, чтобы не замерзнуть в старой избе в крещенский холод. Да ведь и замерзают старушки одна за другой. Проголосуют и умрут. Безропотно, как некрасовская Арина. Что же вы, внуки, куда глядите? Почему даете себя одурачить вином, телевизором, фальшивой газетой?»
Мои вопрошания и восклицания летят в пустоту. Никто не слышит. И демон отчаяния даже в деревне снова хватает мое сердце в свою когтистую лапу. Когда же он ее разжимает, когда вновь появляется желание труда и действия, подскакивают бесы помельче: раздражение, нетерпение, торопливость. То и дело суют они свой нос в мою жизнь, нарушая душевное равновесие. То же радио убеждает меня, что Великая Отечественная началась не в 41-м, а в 36-м. Будто бы не пятьдесят пять лет назад, а шестьдесят. И не на наших границах, а в Испании… Этакие вот любители юбилеев. Я не могу выдержать всего этого, я болен, я убегаю в деревню, на родину. Сколько раз спасали меня от отчаяния мои земляки! Хотя бы и та же Марья Дворцова, дом которой от моего в двадцати шагах. Совсем хромая после неудачного удаления грыжи («Раньше плясала-то и я добро, пока дохтур жилу-то не перерезал»). Когда спит — непонятно. Не одну пятилетку работала дояркой. На пенсии тоже каждую минуту в трудах. Дрова, огород, скотина. Картошку сажает каждый раз самая первая.
Мой друг японский профессор Ясуи-сан предлагает Марье сфотографироваться. Она положила на лужок вицу, которой дирижирует коровами и теленком. Приобдернула затрапезную юбчонку, улыбчиво приняла торжественную, как ей казалось, позу. Минако-сан, жена профессора, фотографирует Марью, а мне вспоминается японский фильм «Голый остров» режиссера Кимэто Синдо. Разница только в одном: никто не захотел и уже не захочет, наверное, сделать фильм про Марью Дворцову!
Профессор смеется, рассказывая, как они с Минако-сан учились топить русскую печь (я поселил их отдельно, в старой отцовской избе). Все они сделали вроде бы правильно, но одного не учли. Не открыли трубу: задвижку и вьюшку. Когда полная изба набралась дыму, они закрыли печь заслонкой. Дрова сами погасли, но дыму в избе стало еще больше. Я уже писал где-то, как Ясуи-сан осваивал русскую баню в первый его приезд. В этот раз он осваивает избу. Любит он вместе с женой ходить на речку, сидеть на траве под горой, гулять в безлюдных, тихих полях. Особенно хвалит мою сестру Лидию Ивановну за непритязательную деревенскую кухню.
Сегодня он вместе с Минако-сан уговаривает меня приехать в Японию… Мои гости уже спешили в Москву и затем домой, виза у них заканчивалась. Я тоже вскоре уехал в Вологду. Потом побывал в Москве и еще где-то… Смятенье в душе началось опять…
В голову приходит иной раз такая мысль: «А не слишком ли много ты, сударь, ездишь? Пожил бы хоть одно лето в своей вымирающей, но древней Тимонихе. Скоро, скоро от нее останется одна твоя баня…»
Действительно, не успел прилететь из Дамаска, покатил в Сербию. Вернулся из Белграда — лермонтовские дни тут как тут. Это не считая постоянных метаний между Вологдой и Москвой. А в деревне сиротливо лежит недописанная глава новой книги. Труба у тебя там развалилась. Морковь не прорежена, картошка не окучена. Лук не прополот… Вологодские литературные коллеги обижаются: игнорирую, дескать, областные мероприятия. Все ездишь. Уже девять лет не хватает времени разобрать архив. Не зря у тебя и денег никогда нет…
В ноябре 1993-го прямо с обрызганного кровью асфальта, что около Останкинского телецентра, я поспешно удалился в Тимониху. Анфисы Ивановны в живых не было, печь в доме давно остыла, пришлось разогревать несколько дней. Тогда ли была написана моя стихотворная молитва? Или раньше?
О Боже мой!
В тиши лесов,
В безлюдье дедовских угодий
Убереги от праздных слов
И от назойливых мелодий.
От суеты и злобы дня
Спаси и впредь, спаси меня.
Покуда в душах ералаш
И демократы жаром пышут,
Я обновлю колодец наш
И починю родную крышу.
Не дай устать моим рукам,
Еще — прости моим врагам.
От всяких премий и наград
Убереги в лесу угрюмом…
Но вечевой Кремля набат
Не заслони еловым шумом!
…Не попусти сгореть дотла,
Пока молчат колокола.
Нынче уговорил жену снова поехать в деревню. Утром завел «Ниву». Мы приехали в Тимониху в средине дня. На улице было безлюдно и тихо. Только в Марьином доме поминутно трубила корова.
— С утра корова-то ревет, — сказала мне другая соседка, ковылявшая куда-то в поле. — Мы утром стукались, стукались, а Марья не отворила воротати. Мы и ушли. Надо бы корову-то выпустить… Ужо пойду позвоню сватье Марьиной, зять-то Марьин вроде еще отпуске.
Не мог и я попасть в свой дом, потому что мы с женой оставили ключи в Вологде. Пришлось ломать замки… Корова то и дело мычала. Марьин зять Гурий, ночевавший у матери в другой деревне, прибежал и каким-то известным ему способом проник в тещин дом. Когда я ломал свои замки, он в ужасе выбежал на улицу, потому что Марья лежала под коровой мертвая. Уже остывшая.
Наши звонки на медпункт и участковому были втуне. Милиционер и медичка отказались приехать… Корова трубила на всю округу. Она трубила весь день и вечер, потому что ее некому было подоить. Наконец, вечером подоила, кажется, Серафима — другая соседка. У Марьи не нашлось даже досок на гроб. Доски пришлось «позаимствовать» у пустого соседнего дома (хозяева приезжали в отпуск, но уже уехали).
Какая же, однако, беспечность! Постучали утром, но Марья не открыла. И все ушли. Только одна корова «ревела» на всю деревню. Вот так же под коровой нашли пять дней назад председательшу нашего колхоза «Родина» сорокапятилетнюю Раису Алексеевну Мартьянову. Она умерла от инсульта, когда доила корову. К чему бы ей-то так рано?
А может, оттого, что нечем было платить дояркам и механизаторам? Вместо денег она рассчитывалась с ними водкой. Брала деньги в долг по списку у пенсионеров. Ехала в Вологду прямо на ликеро-водочный. Покупала по дешевке водку, а дома рассчитывалась механизаторами бутылками. При этом и сама не брезговала «веселой» жидкостью. Когда узнал об этом, то вздумал через печать обратиться к демократам Москвы. Письма читателей переменили мои намерения, я обратился с этим воззванием уже не к одним демократам, а ко всем москвичам.
Слово к Москве
«Уважаемый Василий Иванович, почему же не слышно вас и не видно? И В.Г. Распутина нигде не слышно и не видно! Что же, вы думаете, что ваши слова нам не нужны? Нужны, даже очень! Особенно в это смутное время. Ответьте, если будет возможность…» (Из письма).
Не знаю, как В. Г. Распутину, а мне таких писем последнее время приходит все больше. Это обстоятельство не только обязывает отвечать, но дает право и спросить кое-что. Особенно москвичей. Уже много раз слыхал от московских друзей и единомышленников упреки русскому народу, дескать, что с него возьмешь? Его морят голодом, морозят, обманывают, а он все равно голосует за своих обманщиков и предателей. Ну, во-первых, не всегда… Во-вторых, давайте разберемся, кто кого предал: народ ли Москву или Москва предала русский народ? Может быть, это слишком опрометчиво, но я обращаюсь с таким вопросом к целой Москве…
Спрашиваю об этом каждого жителя великого города. Независимо, кто он, этот житель: президент ли громадного государства или чесоточный бомж, ночующий под Москворецким мостом. Премьер ли, имеющий акции «Газпрома», или торговец колготками. Депутат или не депутат. Демократ или коммунист, банкир или уборщица, подземный труженик или надземный, вооруженный или безоружный. Это обращение (воззвание, открытое письмо, вопль отчаяния, назовите, как вам удобнее) я хотел предложить газете «Вечерняя Москва». Друзья лишь рассмеялись. Да, «Вечерняя Москва» создана не для Москвы и не для России. Не для нас крутятся ротационные машины «МК», «Известий», «Комсомольской правды» и т. д. Не для России, а против нее вещают многие дикторы телевидения и радио, возглавляемые господами типа Сванидзе, Попцова и Сагалаева. Четвертого октября участвовал в манифестации в память о погибших в 1993 году. Вот что скандировали участники демонстрации: «Банду Ельцина — под суд!», «Янки, гоу хоум!». Ни одна «независимая» и «свободная» радиостанция, ни один так называемый «бесцензурный» телеканал не озвучили эти призывы! Не смейтесь, господа, не кривите улыбки, когда слышите и такие слова: «Идет война народная, священная война!» Война в Москве и в России действительно идет… И вам, демократам, не поздоровится на этой войне. Правда, вы пока побеждаете, как побеждали вначале и гитлеровцы, дошедшие до Волоколамска, как побеждал и Наполеон, стоявший уже на Поклонной горе, где сегодня строится синагога.