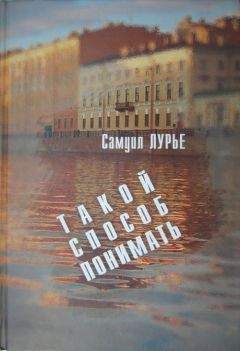Самуил Лурье - Железный бульвар
Смелость фантазии необычайна, изобретательность, а равно изобразительность почти невероятные, чуть ли не в каждом стихотворении что-нибудь сказано так, что прекрасней и пронзительней, кажется, и нельзя, — иная совсем короткая строчка уводит черт знает в какую даль, — но ценой какого отчуждения все это написано. Ценой — не в смысле биографических утрат, до которых действительно никому не должно быть дела (и не сметь жалеть-порицать), — а в смысле установки взгляда на резкость, возможную только если смотреть с той стороны всех вещей. Оттуда, где нет тел. Где вообще ничего нет, кроме свободы.
Которая, как оказывается, мрачна и нестерпимо холодна. По-своему не легче рабства.
Думаю, не было в мире писателя, зашедшего в эту область настолько далеко, как Иосиф Бродский.
Он нашел — установил — выяснил — что-то такое, чего люди, вообще-то, знать не хотят. О чем боятся думать долго.
Это знание могли разделить с ним, как победу, только те, кто научился и привык жить без надежды и смысла.
Людям более счастливым тексты Бродского должны быть тяжелы.
Все собаки съедены. В дневнике
Не осталось чистой страницы. И бисер слов
Покрывает фото супруги, к ее щеке
Мушку даты сомнительной приколов.
Дальше — снимок сестры. Он не щадит сестру:
Речь идет о достигнутой широте!
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
Как чулок девицы из варьете.
Собственно, я только хотел сказать, что не случись Иосифа Бродского, жизнь некоторых была бы бедней, скучней, темней, нелепей, несчастней. Примерно такая, как у пьяного верблюда в железной клетке зимой.
О ПОЛЬЗЕ. О СЕБЕСТОИМОСТИ. О ЦЕНЕ
7 октября 2006
Что он, собственно, сказал? Почти наверное — почти то, что думал. Более того — получилось довольно близко к правде.
Вам представляется странной сама идея, что иные убийства бывают вредней некоторых печатных текстов? Но рассудите: текст вреден, когда опасен; опасен же — когда обладает определенной силой; которая часто заключена в его убедительности. Ergo: убийство, повышающее убедительность наказуемого текста, действительно может причинить больше вреда, нежели сам текст.
Например, убийство автора, который уверял — тщетно! — своих читателей, что в РФ укоренился и процветает «государственный самосуд».
В самом деле: Анна Политковская писала и печатала про «эскадроны смерти». Про убийства свидетелей убийств.
А сама была свидетель. И собирала свидетельства.
Вообще-то неопровержимые. Но недостаточно убедительные. Поверить ей было невозможно.
Поверить ей — значило выбирать: или немедленно все бросить и прямо с «Новой газетой» в руке бежать на улицу, крича: давайте все вместе сейчас же прекратим этот кошмар! Или, наоборот, спокойно продолжать жизнь, ее горечью заедая тошноту, немного похожую на стыд.
Должно быть, примерно что-то такое чувствовали порядочные немецкие люди лет этак семьдесят тому назад. Правда, жалея их, государство к тому времени уже избавилось от всяческих «Новых газет». И некоего Карла фон Осецкого, между прочим, сплавило в концлагерь.
А нам все еще приходится — чтобы почти ничего не знать — почти ничему не верить. Чтобы, значит, не презирать (о, совсем чуть-чуть, а все-таки неуютно) самих себя. Но не бежать же, и в самом деле, на улицу.
И мы возражали Анне Политковской (почти все — молча; но некоторые — совершенно вслух):
— Сочиняешь! Как минимум — страшно преувеличиваешь! Как это — свидетелей убирают? Сама-то небось жива!
Это был наш главный контраргумент.
И вот ее убили. Застрелили в кабине лифта. Четырьмя, что ли, пулями, считая контрольную. Вычислив момент — до секунды: чтобы обе руки у женщины были заняты тяжелыми продуктовыми сумками (для матери покупала, в больницу); чтобы не могла хоть заслониться ладонью; вообще-то удобней, когда на приговоренном — просто наручники.
Эти четыре пули — все равно что круглые печати на текстах Анны Политковской: с подлинным верно. Подтверждающие опасную ценность текстов.
Ну, он так и сказал. Он сказал так: убийство этой женщины повредило Государству (это, положим, оперативный псевдоним) больше, чем ее публикации.
То есть влепил жертве строгача с занесением в личное дело, но и убийцам поставил на вид: дескать, услужливый дурак опаснее врага. Себе же выговорил, на всякий случай, алиби: как потерпевшему. Как, прямо говоря, единственному безвинно пострадавшему.
Публицистика отчизны схватила это на лету. И донесла до своей публики: что Политковскую убили ни в коем случае не ее враги, а его. А значит, скорей всего, ее друзья. Не исключено, что по ее же наущению. Что она, если хорошенько разобраться, сделалась убитой назло ему. Чтобы бросить на него тень. И обеспечить распространение своих текстов.
Отчизна зарыдала от жалости к нему. Но он-то находился за границей — как назло, в самый день похорон, подвергаясь публичному расспросу от людей западных, сентиментальных. Которым нормальной, взвешенной реакции, видите ли, мало. У них так: раз убийство — обязательно надо его осудить. С какой-нибудь дополнительной точки зрения. Помимо той, что пользы — чуть, а неприятностей вагон.
Уставились и ждут, этак чуть ли не требовательно: осуди да осуди. Ну хоть за что-нибудь еще.
Он сосредоточился. И осудил — за жестокость.
Хотя, между нами говоря, мгновенная, внезапная смерть от пули — совсем не худшее из того, что может в нашей стране случиться с человеком, сочиняющим тексты, вредные для государства. Как, впрочем, и с любым другим — если своим поведением или просто своим видом он возбуждает в окружающих патриотизм.
Например, с девятилетней таджикской девочкой в петербургском саду.
Без сомнения, он это знал. А Политковская знала еще в тысячу раз подробней. Про разные вещи, которые несравненно хуже выстрела в упор.
А на расстрел ее уже выводили. Дважды в течение одной ночи. В феврале 2001-го. В расположении 45-го полка.
Так что ума не приложу, какую он имел в виду гуманную альтернативу.
Разве что яд — как в том самолете, 1-го не то 2 сентября 2004-го, когда она пробивалась в Беслан.
Как бы то ни было — ему пришлось что-то такое произнести. Такую фразу, чтобы западные отстали. Но чтобы и свои не почувствовали себя оскорбленными в лучшем из чувств. Осторожно так: какими бы мотивами ни руководствовались, преступление омерзительно. По своей жестокости.
Ну и пару слов про меры, само собой. Что будут приняты. Или предприняты. Короче, вас не касается. А также не делайте из мухи слона. Ее тексты не имели никакого значения. Не пользовались спросом.
Как видим, он не хуже нас с вами понимает, за что убита Анна Политковская. Под какой мотив.
Как и мы, догадывается — кем, но тоже вряд ли когда-нибудь узнает точно. И ему тоже неприятно и некогда думать об этом.
Не сейчас. Когда-нибудь на пенсии, на благополучной старости лет. Отрастив бороду и вставив линзы. В европейском городке, посредине которого будет стоять Политковской памятник. Присесть в сквере на скамью между клумб и неторопливо так, внимательно прочитать ее последнюю книгу.
Книга называется: «Путинская Россия», так что в одноименной реальности достать ее негде.
А предыдущая озаглавлена: «Вторая чеченская» — согласно общепринятой нумерации этих войн.
Сама же Анна Политковская участвовала исключительно в третьей чеченской войне. И на ней погибла. Пав смертью храбрых.
Объявленные две — независимо от того, что назывались не так, и вообще кто что про них ни думай, — состояли из боестолкновений вооруженных людей с вооруженными людьми.
Третья зажглась в глубине первой, пылала под покровом второй и все не гаснет.
Это война вооруженных с безоружными. Вооруженных воодушевляла тройная цель: ограбить, унизить и уничтожить как можно больше безоружных. Полагаю, на бумаге такой директивы нет и не было. Она была написана на лицах начальников и читалась так: дозволено все! Как известно, таков лозунг ада.
В который Чечня и превратилась. В 2000 году — окончательно. И может быть, бесповоротно.
На любой войне гражданское население бедствует: бомбежки, обстрелы, голод, эпидемии. Разрушенные жилища, разнузданные инстинкты.
Ничем таким нас, телезрителей по преимуществу, не удивишь, наши сердца не тронешь. Зато и за описания соответствующих ужасов никого не убивают. Описания — более или менее простительный дамский аполитичный пацифизм. Ужасы — неизбежные издержки политического процесса.
«Вон женщина со строгим лицом и холодными глазами — типичная чеченка времен войны. Она из горного селения Махкеты в Введенском районе. У нее трагедия: 14-летнего сына „замочили в сортире“. Натурально так „замочили“, без всяких иносказаний — прямым попаданием снаряда в деревенскую „дырку“, когда парень отправился по нужде. Дом этой женщины — почти на краю села, вот федералы и видели с постов, кто куда по двору идет. Поняли, зачем мальчик двинулся по тропинке в дальний угол огорода, — и пальнули. С одной стороны, в собственное удовольствие. С другой — непосредственно исполняя волю своего президента, — просил же Путин, главковерх, „мочить“».