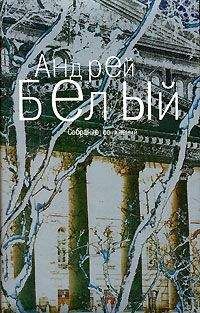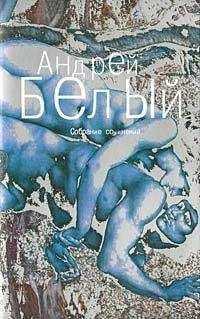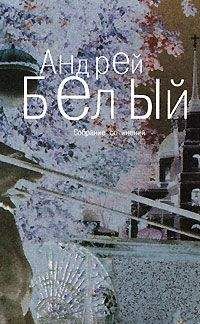Разумник Иванов-Разумник - Андрей Белый
Мы знаем, что как раз в это время Мережковский убежденно проповедовал о близком светопреставлении; мы знаем, что своим путем Андрей Белый давно уже пришел к этой вере. В журнале «Новый путь» 1903 года появилось письмо к Мережковскому «студента-естественника»; студент заявлял, что он, что они — слышат трубные гласы, пророчествующие о светопреставлении. «Мы ждем! Мы готовимся!» — восклицал «студент-естественник», и это был не кто иной, как Андрей Белый. Исследование Мережковского «Толстой и Достоевский», в котором прозвучала вера в близкий конец мира, «было для меня, — вспоминал позднее Андрей Белый, — призывом февральской вьюги предвесенней, поющей о дне восстания из мертвых…» («Мережковский», 1906 г.). Но тут же лежало и начало отчаяния Андрея Белого, начало его сомнения в истине своей эсхатологической веры: живую веру убил Мережковский мертвыми словами. Это о себе, конечно, говорит Андрей Белый: «если вы критик, поэт и мистик, Мережковский заставит поверить вас, что наступил конец мира… и потом закончит схоластической схемой: „везде раздвоение: это сила Христа борется с силой Антихриста“. И тут скроется от всех — по всей пирамиде своих книг пройдет на вершину своей башни, усядется в облаках с подзорной трубой…» («Мережковский», 1906 г.). И быть может, думает Андрей Белый, Мережковский давно уже замерз на вершине своей башни, все того же крайнего индивидуализма, которого он не мог растопить ни своей «религиозной общественностью», ни, ранее, своей эсхатологической верой. И даже веру Андрея Белого он заморозил словами, «вялыми диалектическими упражнениями». Около 1904 года Андрей Белый испытывает тяжелый душевный переворот: его оставляет вера в близости Христа- Грядущего, в грядущее вместе с Ним спасение; вчера еще Андрей Белый ждал Христа, а сегодня он уже не ждет никого, кроме лже-Христа… Вчера еще он слышал вечный зов земли: «Объявись — зацелую тебя!» («Вечный зов», 1903 г.), а сегодня он пишет непосредственно следующее за «Вечным зовом» стихотворение «Не тот», характерное уже по заглавию.
Мглой задернут восток.
Дальний крик пролетающих галок…
Это — он… И венок
Он плетет из фиалок.
На лице его тени легли…
Его голос так звонок.
Поклонился ему до земли.
Стал он гладить меня, как ребенок.
……………………..
Он, как новый Христос,
Просиявший учитель веселья,
В лепестках белых роз,
С чашей странного зелья,
И любя, и грустя,
Показался из дали,
Как святое дитя;
Он — в закатно-янтарной печали…
Но когда он, приявший венец, сел на трон, то «голос бури мировой проговорил глухо, сердито, и тени грозные легли…». И вот — «от стран далекого востока мы все увидели вдали седобородого пророка… И царь испуганный… корону сняв, во тьму бежал…». И багряница его — в лохмотьях, сам царь — запуган и жалок, и на его «лице снеговом — голубые безумные очи…». Это — «не тот», не Мессия, которого так ждала душа Андрея Белого; это лишь — «сон сумасшедшего» (так раньше называлось это стихотворение).
Начинается целый ряд стихотворений, посвященных развенчиванию лже-Мессии и горькому осмеянию былых своих чаяний и упований. Дерзкая мечта недавнего былого о «нашем Иван-Царевиче, нашем белом знаменосце» находит язвительный ответ в стихотворении «Жертва вечерняя» (1903 г.):
Стоял я дураком
В венце своем огнистом,
В хитоне золотом,
Скрепленном аметистом.
Стоял один, как столп,
В пустынях удаленных,
И ждал народных толп
Коленопреклоненных.
Я долго, тщетно ждал,
В мечту свою влюбленный…
На западе сиял
Смарагд бледнозеленый;
И — палевый привет
Потухшей чайной розы…
На мой зажженный свет
Пришли степные козы.
«Будь проклят, Вельзевул,
Лукавый соблазнитель!
Не ты ли мне шепнул,
Что новый я Спаситель?»
Как сорванная цепь
Жемчужин — льются слезы…
Помчались быстро в степь
Испуганные козы.
Так печально закончились былые мечты и упования. И в следующем же стихотворении «Мания» (1903 г.) перед нами снова безумный, возомнивший себя Христом, безумный, с исступленным видом, сам сознающий «безумий напор». «Ну что ж? На закате холодного дня целуйте мои онемевшие руки; ведите меня на крестные муки…». И опять следующее стихотворение «Лжепророк» говорит нам все о том же, все о том же: о тяжелом крушении недавней жаркой веры.
Проповедуя скорый конец,
Я предстал, словно новый Христос,
Возложивши терновый венец,
Разукрашенный пламенем роз.
Запрудив вкруг меня тротуар,
Удивленно внимали речам.
Громыхали пролетки; и — там
Угасал золотистый пожар;
Повисающим бурым столбом
Задымил остывающий зной…
Хохотали они надо мной,
Над безумно-смешным лже-Христом.
Яркогазовым залит лучом,
Я поник, зарыдав, как дитя;
Потащили в смирительный дом,
Погоняя пинками, меня…
И вот лже-Мессия уже — за решеткой («Дурак», 1903 г.), и слышит он прежний вечный зов земли: «объявись — зацелую тебя»; но он уже бессилен, уже побежден, не победив… «Утихает дурак; тихо падает на пол из рук сумасшедший колпак…». Если теперь в стихотворении Андрея Белого появляется Христос, то это уже лже-Мессия, и конец его — за решеткой сумасшедшего дома; и сам поэт первый произносит тяжелое слово: «безумный»…
Он, потупясь, сидел
С робким взором ребенка.
Кто-то пел
Звонко.
Вдруг
Он сказал, преисполненный муки,
Побеждая испуг,
Взявши лампу в дрожащие руки:
«Се дарует вам свет
Искупитель…
Я не болен: нет, нет!
Я — Спаситель».
Так сказав, наклонил
Он свой лик многодумный…
Я в тоске возопил:
«Он — безумный».
И Мессия кончает — в сумасшедшем доме: «да, ты здесь! Да, ты болен!» — как бы не верит еще сам себе поэт. А мессианству своему верит только один он, безумец, возомнивший себя пророком. Последнее из этого круга стихотворений, пока заканчивающее собой весь «мессианский цикл», показывает уже нам былого пророка — в больнице:
Рой отблесков… Утро… Опять я свободен и волен.
Открой занавески: в алмазах, в огне, в янтаре —
Кресты колоколен. Я болен?.. О нет — я не болен. Воздетые руки — горе, на одре, в серебре…
Там — в пурпуре зори… Там бури… И—в пурпуре бури. Внемлите, ловите: воскрес я — глядите: воскрес.
Мой гроб уплывает туда — в золотые лазури…
Поймали, свалили: на лоб положили компресс.
Это чудесное, мастерское стихотворение — последняя точка над белыми мессианскими чаяниями; компресс на лоб — вот чем кончились былые пламенные ожидания Мессии. И отныне на долгое время главная ненависть обманутого ложными пророчествами поэта — лжепророк, Пер Гюнт, в какие бы перья он ни рядился. Лжепророк, отважно бросающийся в бездну эсхатологии, оставляет теперь Андрея Белого недоверчивым. «Только каменные козлы, — говорит ядовито он, — на рога бросаются в бездну…». Теперь его душа среди тех, которые уже «пропылали мистикой апокалипсиса» и которые теперь «улыбаются детским экстазам прошлого, отошедшим вдаль» (таковы, по его мнению, герои Ибсена). «Мы знаем: свет есть. С нас достаточно этого знания. Мы можем пока обойтись без широковещательных апокалипсических экстазов, если они преподаются в кабачках или при звуках охрипшей шарманки. Благородное одиночество дает отдых душе, вырванной из тисков кабацкой мистики» («Ибсен и Достоевский», 1905 г.). Благородное одиночество! Вы видите: с чем поэт был, с тем и остался. А «кабацкая мистика» — это былые эсхатологические чаяния! И если иногда еще прорываются былые чаяния и упования, ожидания «конца Всемирной Истории» («Апокалипсис в русской поэзии», 1905 г.), то это лишь последние зарницы, вызванные грозою 1905 года. В общем же холодно смотрит (или хочет смотреть) поэт на былое свое горение; освобождается он от власти пророков и лжепророков. Он говорит о религиозно-эстетической критике Мережковского: «мы в нее уверовали. Много ждали от нее. Думали мы — загорится пожар небывалый… Мы ждали новых времен. Новые времена не принесли новостей… Мы преклонились пред будущим. Но теперь, когда будущее запоздало… мы призываем с пути безумий к холодной ясности искусства, к гистологии науки, к серьезной, как музыка Баха, строгости теории познания. Мы опять в горах. На перевале к лучшему будущему нас встречают туманы. Мы опять одни» («Отцы и дети русского символизма», 1905 г.). Все это — характернейшие признания и о своем прошлом, о попытке спастись от ледяной пустыни путем безумия, и о своем настоящем — вновь одиноком и вновь нуждающемся в исходе. Но каков бы ни был этот исход — старые пути отвергнуты. «Теперь мы трезво и строго смотрим на шумиху слов о религиозном возрождении мира». Теперь с ядовитой иронией вспоминает Андрей Белый о том, как «кто-то выскакивал на общественную трибуну заявлять о приближении конца мира», и о том «мистериальном наркозе», которому сам он был столь подвержен («Искусство и мистерия», 1906 г.). Теперь он борется со всяким «пер-гюнтством», иногда подпадая на время под его влияние: к этой болезни Андрей Белый всегда был очень восприимчив. Одно время, в 1904–1905 году, он поддается влиянию Вяч. Иванова, начинает говорить о вихревом круговороте пронизанных друг другом переживаний, слитых музыкою в дионисическое пламя и ведущих к обрядам кругового действа, мечтает о хороводах и тихих плясках и считает «замечательно глубоким» мнение, что «орхестра — необходимое условие мистерии — есть средоточие форм всенародного голосования» («Маска», 1904 г.; «Апокалипсис в русской поэзии», 1905 г.). Но этот мираж скоро рассеялся, и Андрей Белый не щадит ударов по новому «лжепророку». Слова о «мистерии соборного творчества» напоминают ему теперь мистерию мюнхенцев вокруг пивной кружки и свидетельствуют, по его мнению, об оскудении литературы. А Россия и без того покрыта «орхестрами» — хороводами, но не радует в ней поэта «соборное творчество нецензурных слов…». И ядовито представляет он себе Государственную Думу в виде «орхестры», с хорегом Вяч. Ивановым («Литератор прежде и теперь», 1906 г.; «Мюнхен», 1906 г.; «Театр и современная драма», 1907 г.; «Настоящее и будущее русской литературы», 1907 г.). Наконец, в четвертой симфонии довольно сердито расправляется Андрей Белый с «золотоволосым мистиком», который «прыгал в небо, но полетел вниз, и красиво врал…». А с «Жеоржием Нулковым», мистическим анархистом, в этой четвертой симфонии даже не в меру жестоко поступлено.