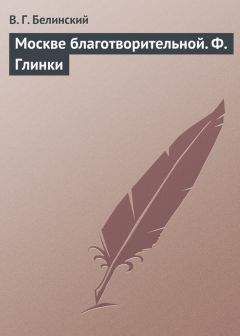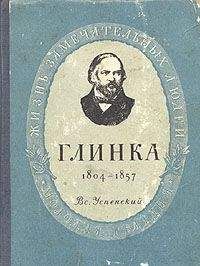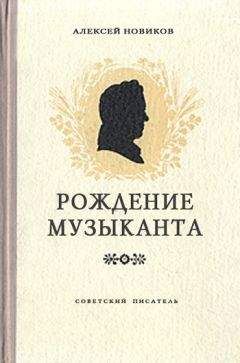Владимир Стасов - Михаил Иванович Глинка
Зато, если усовершенствование игры на фортепиано не повело Глинку ни к каким важным результатам, кроме того, что дало возможность впоследствии свободно импровизировать и аккомпанировать пению, то совсем другие результаты имела его игра на скрипке: она прямо привела к сближению с оркестром. „Несмотря на то, что я мало успевал (в игре на скрипке), я уже мог играть в оркестре дяди. В 1819, 20, 21 годах во время вакаций я посещал родителей. Оркестр дяди усовершенствовался и увеличился несколькими мальчиками, которых отец отдал учиться, чтоб иметь собственную бальную музыку. Сверх того, для младших сестер наняли гувернантку, муж которой, Карл Федорович Гемпель, сын органиста из Веймара, был хороший музыкант; он в свободные часы отправлялся со мною к дядюшке Афанасию Андреевичу, и вместе восхищались мы музыкой…“ В конце 1823 года, то есть через год после выпуска из пансиона, занятия с этим самым оркестром стали еще серьезнее: по-видимому, не следуя ничьему совету, а только одному художественному своему инстинкту, Глинка сумел воспользоваться присутствием и удобством этого домашнего оркестра, почти всегда готового у него под рукою, для того чтобы изучить оркестровое дело единственно верным и плодотворным образом — путем непосредственной практики. „Чтобы добиться более отчетливого исполнения, каждый раз, когда приезжали музыканты (а приблизительно это было два раза в месяц, причем они оставались несколько дней, а иногда около недели), прежде общей пробы я проходил с каждым музыкантом, исключая немногих лучших, его партию до тех пор, пока не было ни одной неверной или даже сомнительной ноты в исполнении. Таким образом я подметил способ инструментовки большей части лучших композиторов для оркестра (Глюка, Генделя и Баха я знал только понаслышке). Потом слышал общий эффект пьесы, ибо, производя первые пробы вместе, сам я управлял оркестром, играя на скрипке; когда же пьеса шла порядочно, я отходил на некоторое расстояние и следил таким образом эффект изученной уже инструментовки. Репертуар состояв по большей части из увертюр, симфоний, а иногда игрались и концерты. Из увертюр были: Керубини — „Медея“, „Hôtellerie Portugaise“, „Фаниска“, „Лодоиска“, „Водовоз“, первые две были мои любимые; Мегюля — „Иосиф“, „Подложный клад“, „L'Irato“; Моцарта — „Дон Жуан“, „Волшебная флейта“, „Clemenza di Tito“, „Фигаро“; Бетховена — „Фиделио“ (E-dur); Бернарда Ромберга — Es-dur и Маурера — Es-dur; в этой последней недоставало альтовой партии, и я, разложив остальные партии по стульям и сравнивая их, написал альт, и, полагаю, совершенно безошибочно. Симфоний было три: Гайдна B-dur, Моцарта g-moll, Бетховена 2-я D-dur; эту последнюю я любил в особенности; Россини (которого Глинка прежде очень любил) уже не играли“.
Итак, Глинка оправдал всего лучше на себе глубокую справедливость латинской поговорки: discendo discimus (уча других, учимся), и если бы художественный инстинкт и горячее стремление юношеских годов не подсказали ему необходимости именно таким образом воспользоваться оркестром дяди, вероятно, другого подобного случая ему бы более не представилось. Великим своим инструментальным мастерством Глинка, конечно, прежде всего обязан тому, как учился над оркестром своего дяди.
Любопытным фактом представляется здесь то обстоятельство, что в числе исполняемых пьес главный перевес был на стороне увертюр; мало того, из числа всех увертюр вообще любимыми для Глинки остались на всю его жизнь именно те, которые он узнал и полюбил в первые юношеские свои годы; даже форма увертюры осталась самою любезною его формою для всех последующих инструментальных его сочинений. К симфонии не влекло его; в этом роде сделано им едва несколько, большею частью невыполненных, попыток. К увертюрной же форме он любил, с особенною симпатичностью, возвращаться во все периоды музыкальной своей деятельности, точно так же, как к форме инструментального самостоятельного скерцо или фантазии, и в этих двух видах создались все лучшие и значительнейшие инструментальные его произведения. Даже в большинстве случаев эти удивительные, бесконечно оригинальные создания его фантазии занимают какое-то среднее место между увертюрой и скерцо. Таковы: „Арагонская хота“, увертюра „Souvenir d'une nuit d'été à Madrid“, „Камаринская“, „Болеро“ и т. д. К увертюрной форме явно относятся также все антракты двух его опер: это прямые сокращенные, миниатюрные увертюры-интродукции, сделанные часто по примеру керубиниевских антрактов, только в расширенном и возвеличенном объеме; к форме же скерцо и фантазии явно относятся почти все танцы обеих же его опер. Танцы его целыми горами и пропастями отделены от тех балетных танцев, которые обыкновенно встречаются в операх даже самых талантливых композиторов. Но обо всем этом мы будем говорить ниже.
Изучение оркестра и музыкальных сочинений вообще не было ограничено для Глинки единственно кругом того, что он слышал и узнавал в исполнении дядина оркестра. Петербургские театры и петербургское общество доставили ему много таких средств для его музыкального образования, которых бы у него не было в деревне. „Во время пребывания в пансионе и даже вскоре по приезде в Петербург, родители, родственники и их знакомые возили меня в театр; оперы и балеты приводили меня в неописанный восторг. Надобно заметить здесь, что русский театр в то время не был в таком бедственном состоянии, как ныне, от постоянных набегов итальянцев. Несведущие, но напыщенные своим мнимым достоинством итальянские певуны не наводняли тогда, подобно корсарам, столиц Европы. К моему счастью, их тогда не было в Петербурге, почему репертуар был разнообразный. Я видел оперы: „Водовоз“ Керубини, „Иосиф“ Мегюля, „Жоконд“ Изуара, „Красная Шапочка“ Буальдье. Теноры Климовский и Самойлов, бас Злов были певцы весьма примечательные, а известная певица наша Сандунова хотя уже не играла на театре, но участвовала в больших концертах, и я слышал ее в ораториях. Тогда я худо понимал серьезное пение; и солисты на инструментах, и оркестр нравились мне более всего… Я не пропускал случая быть где-либо на концерте, и всякий раз, когда только было возможно, возили меня к П. И. Юшкову, где еженедельно играли и пели. Оркестр, хотя не совсем полный, был хорош“. По собственным словам Глинки, он был тогда (т. е. во время своего пансионского периода и в первые годы после него, едва ли не до самой поездки за границу в 1831 году) „чрезвычайно застенчив“, так что нужно было все уменье друзей и знакомых его для того, чтоб ободрять его и устраивать для него новые знакомства; но, несмотря на это, из „Записок“ его видно, что в дружеских и приятных для него семействах, где он был принят как дома, не было у него никогда недостатка едва ли не с самого приезда его в Петербург из деревни, еще мальчиком. Эти многочисленные знакомства имели для него особенно ту выгодную сторону, что он очень часто слышал и исполнял музыку на фортепиано, особенно в четыре руки, и таким образом познакомился в этот период времени со многими хорошими музыкальными произведениями. Поступление на службу в 1824 году по ведомству путей сообщения (вследствие желания отца, „который с трудом удовлетворял издержкам своего сына на уроки музыки и языков“) имело также полезное влияние на расширение круга его музыкального знакомства: случилось, что между его начальниками и сослуживцами многие очень любили музыку; у некоторых бывали музыкальные собрания. Естественным образом. Глинка искал, этих знакомств, и развивавшийся его талант (по крайней мере талант исполнения) скоро доставил ему везде почетное и приятное место в этих небольших музыкальных кружках. „Мое появление приводило всех в радость, — говорит Глинка, — знали, где я, там скуки не будет“. В одних домах ему удавалось слышать квартеты и квинтеты Моцарта, Гайдна и Бетховена, в других он играл много (в четыре руки) симфоний и квартетов Гайдна, Моцарта и даже некоторые пьесы Бетховена, но гораздо больше играл в четыре руки увертюры и театральные отрывки Керубини, Мегюля, Россини и т. д., а так как в то время и русская оперная труппа, весьма примечательная, по его словам, и итальянская (в которой хотя не было первоклассных талантов, но было несколько хороших певцов и певиц) старались давать на сцене все, что тогда было в славе на всех остальных европейских театрах, и, по счастью, мода была на вещи не совершенно дурные, то Глинка скоро узнал и на театре, и в четырехручном исполнении на фортепиано примечательнейшие оперы нашего столетия: итальянские, французские и немецкие. Наконец, в других еще домах он начал знакомиться с пением, начал получать к нему вкус: до тех пор все исключительное внимание его в деле музыки было обращено на сочинение и на исполнение инструментальные.
Итак, Глинка познакомился с итальянским пением и даже с пением вообще, когда был уже юношею, и потому молодые годы его, молодой вкус его были защищены счастливо сложившимися обстоятельствами от влияния итальянского. При его мягкой, необыкновенно впечатлительной натуре итальянское пение, итальянская музыка вообще наложили бы на него (если б он был подвержен их влиянию с самых ранних лет) такую же неблагоприятную печать, как фортепианная школа первой четверти нашего столетия.