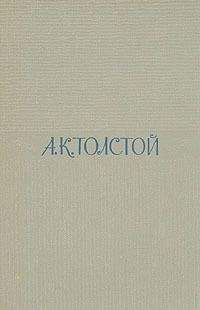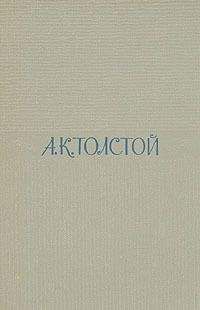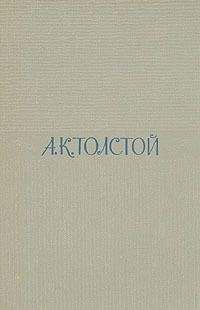Джон Толкин - Чудовища и критики и другие статьи
Если уж критиковать дракона «Беовульфа», то не за то, что он дракон, а скорее за то, что он — не вполне дракон, если подразумевать под этим простую сказочную разновидность. В поэме есть яркие и верные ноты — как в строке 2285 — þa se wyrm onwoc, wroht wæs geniwad; stonc æfter stane [39]. Здесь перед нами настоящий змей, наделенный собственной животной жизнью и мыслью, но концепция, тем не менее, близка скорее к draconitas [«драконству» — лат.], чем к draco [дракону — лат.]: к воплощению злобы, жадности, жажды разрушения (оборотной стороны героической жизни) и неразборчивой жестокости судьбы, не различающей добро и зло (оборотная сторона жизни вообще). Но в рамках поэмы так и должно быть. В «Беовульфе» сохраняется хрупкое равновесие. Грандиозный символизм лежит почти на поверхности, но наружу он не прорывается и аллегорией не становится. Перед нами нечто более значимое, чем обычный герой, человек, противостоящий врагу более яростному, чем любые люди — недруги дома или страны, но в то же время он воплощен во времени, помещен в героическую историю и ступает по знакомым северным землям. И нам говорят, будто именно в этом — коренной недостаток «Беовульфа»! В том, что его автор, живший в период, богатый героическими преданиями, использовал их ново и оригинально, создав не очередное их подобие, а нечто родственное, но иное: меру и осмысление их всех.
Приняв Гренделя и дракона, мы не умалим достоинств героя. Ни в коем случае не стоит лишать древних героев причитающегося им уважения: эти люди запутывались в тенетах обстоятельств или собственного характера, разрывались между двумя равно священными долгами, умирали, но не сдавались. Но «Беовульф», как мне кажется, способствует сохранению этого уважения больше, чем принято считать. Возможно (хотя сведений у нас мало), героические песни по–своему, более кратко и ярко, но также и более грубо и помпезно (и менее вдумчиво), описывали действия героев, попавших в обстоятельства, более или менее соответствующие в целом простой, несмотря на вариации, схеме героического положения. В таких песнях (если бы они сохранились) мы увидели бы высшие проявления непобежденной воли, манифест которой звучит в словах Бюрхтвольда во время битвы при Мэлдоне [40].[13] Уделив поискам достаточно внимания и терпения, мы могли бы по отдельным строчкам и акцентам представить себе подоплеку воображения, придающую смысл этой непобедимости, этому парадоксу поражения неизбежного, но не признаваемого. Однако именно в «Беовульфе» поэт посвятил сей теме все свое творение целиком и изобразил борьбу в разных пропорциях, так что мы можем наблюдать войну человека с враждебным миром и его неизбежное поражение во Времени[14]. Частности — на периферии, а в центре — самое важное.
Я, конечно, не утверждаю, что если бы автора «Беовульфа» можно было расспросить, то он ответил бы в том же духе, используя аналогичные англосаксонские термины. Будь для него все настолько ясно, поэме бы оно только навредило. И все же мы видим, как по этой сцене, на фоне полотен, сотканных из преданий о гибели и разрушении, шествуют hæleð [герои]. Прочитав поэму как поэму, а не как собрание отдельных эпизодов, мы понимаем, что писавший о hæleð under heofenum, возможно, имел в виду словарные выражения «герои под небосводом» или «могучие воины на земле», однако ему и его слушателям при этом представлялась eormengrund, огромная земля, окруженная garsecg, безбрежным морем, под недосягаемым сводом небес. На этой земле, в маленьком круге света вокруг своих палат люди шли сражаться с враждебным миром и порождениями тьмы, полагаясь только на собственную храбрость. Для всех, даже для королей и героев, битва кончается поражением. Даже если такую «географию», некогда считавшуюся материальным фактом, нынче относят к области сказки, ее ценность от этого не умаляется. Она превосходит астрономию. К тому же, астрономия вовсе не сделала сей остров надежнее, а внешние моря — менее устрашающими.
Так что Беовульф, строго говоря, совсем не персонаж героической поэмы. Он не запутывается в тенетах долга и не страдает от несчастной любви. Он — человек, и для него самого и многих других это уже трагедия. Дело тут вовсе не в том, что волей досадного случая стиль поэмы стал высоким, а тема — низкой. Достоинство стилю придает именно смертельная серьезность темы: lif is læne: eal scæceð leoht and lif somod [41]. Основная мысль здесь столь гибельна и неминуема, что обитатели освещенного круга и осажденного зала, занятые работой или беседой и не глядящие на свои укрепления, либо не обращают на нее внимания, либо в ужасе отступают. Смерть приходит на пир, а о ней говорят: «речи невнятны, в них нет чувства меры!» [42]
Я бы предположил, что чудовища — совсем не парадоксальное дурновкусие; они имеют принципиальное значение для основополагающих тем поэмы, придающих ей возвышенный тон и высокую серьезность. Таким образом, ключевыми для понимания художественной точки слияния, породившей поэму, становятся те самые отсылки к Каину, которые так часто используются в качестве палки для битья: их принимают за явные признаки (и без того самоочевидной) неразберихи, царящей в головах у ранних англосаксов. Их темные мозги–де были совершенно неспособны отделить скандинавскую нечисть от Святого Писания. Новый Завет им и вовсе было не осилить. Я, как уже говорилось, недостаточно прилежен, чтобы должным образом ознакомиться со всеми книгами о «Беовульфе», но, насколько мне известно, на сегодняшний день наиболее показательный подход содержится в статье «Беовульф и героическая эпоха», на которую я уже ссылался[15]. Приведу небольшую цитату:
Во времена «Беовульфа» Героическая Эпоха, более варварская и первобытная, чем греческая, соприкасается с христианским миром, с Нагорной проповедью, с католическим богословием и понятиями Рая и Ада. Разница станет очевидной, если сравнить самый варварский — сказочный — элемент «Беовульфа» с самыми варварскими мотивами у Гомера. Возьмем, к примеру, легенду об Одиссее и Циклопе — уловку с «Никто». [43] Одиссей здесь сражается с чудовищным и злобным противником, но это не вполне то же самое, что сражение с силами тьмы. Пожирая своих гостей, Полифем совершает действия, ненавистные Зевсу и другим богам: но сам Циклоп — порождение бога и находится под божественной защитой, и увечье, нанесенное ему Одиссеем, — оскорбление Посейдону, которое тот долго не может простить. Однако те гигантские противники, с которыми приходится столкнуться Беовульфу, обозначены в поэме как враги Господа. К Гренделю и дракону постоянно прилагаются наименования, призванные напомнить о силах тьмы, осаждающих христианский мир. Они[16] — «узники Ада», «противники Господа», «отродье Каина», «враги рода человеческого». Следовательно, основной сюжет «Беовульфа», каким бы чудовищным он ни был, удален от общего опыта средневековья не так сильно, как от нашего собственного … Грендель не так уж сильно отличается[17] от адских бесов, вечно подкарауливающих праведников. И сам Беовульф, хоть он и помещен в мир первобытной германской Героической Эпохи, тем не менее, уже почти является христианским рыцарем[18].
Здесь содержатся некие намеки, за которые, как мне кажется, стоит ухватиться. Важнее всего проследить, как и почему чудовища стали «противниками Господа» и начали олицетворять силы зла (а позже и отождествляться с ними), при этом оставаясь, как в «Беовульфе», смертными обитателями материального мира, его неотъемлемой частью. Я всюду принимаю датировку «Беовульфа» так называемой «эпохой Бе ды» [44] — к такому четкому выводу пришла одна из наиболее полезных для литературоведения областей исследования, стремящаяся датировать сочинение поэмы в том виде, в каком она дошла до нас. В таком качестве «Беовульф», естественно, представляет собой ценнейший исторический документ для изучения мировоззрения и мышления того периода, хотя профессиональные историки, пожалуй, используют его для этой цели не так уж часто[19]. Но меня интересует не история ради исторического подхода, а внутренний настрой автора, основы его художественного мировосприятия. Время слияния волнует меня постольку, поскольку оно способствует нашему пониманию поэмы. И в поэме, как мне кажется, мы наблюдаем как раз не смешение, не противоречивость или невнятицу, а слияние, произошедшее в данной точке соприкосновения старого и нового, плод размышлений и глубоких переживаний.
Одним из самых сильнодействующих элементов в этом слиянии было северное мужество: концепция мужества, представляющая собой важнейшее наследие древней литературы Севера. Это суждение военных действий не касается. Я не утверждаю, что найми троянцы себе на службу северного конунга с дружиной, они загнали бы Агамемнона и Ахилла в море еще более решительно, чем греческий гекзаметр выигрывает у аллитерационного стиха, — хотя такая возможность не исключена. Я имею в виду, главным образом, тот факт, что в северной традиции идея непреклонной воли занимает центральное место. С определенной долей осторожности можно обратиться к сохранившейся в Исландии традиции языческого мировосприятия. Об английской дохристианской мифологии нам не известно практически ничего. Но сходное в своей основе героическое мышление древней Англии и Скандинавии не могло основываться на мифологиях, различающихся в этой важнейшей точке (как и не могло породить такие мифологии). По выражению Кера, «северным богам присуща бьющая через край невоздержанность в ведении войны, которая роднит их скорее с титанами, чем с олимпийцами; но они находятся на правой стороне, хотя эта сторона и терпит поражение. Побеждает сторона Хаоса и Безумия» — мифологически представленная чудовищами — «но побежденные боги не считают свое поражение ниспровержением»[20]. И люди в этой войне — избранные соратники богов, способные, будучи героями, разделить это «идеальное сопротивление, совершенное, ибо безнадежное». Мы можем предположить, что языческие картины мира англичан и скандинавов не различались по крайней мере в отношении этого видения окончательного поражения человека (и богов, созданных по его образу и подобию), а также изначального противостояния между богами и героями, с одной стороны, и чудовищами, с другой.